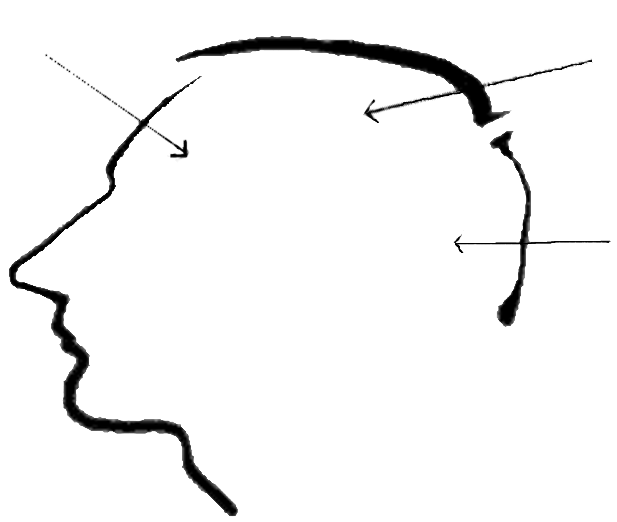 Главная страница
- Леонид Кипарисов. Живопись,
проекты.
Head Page - Leonid
Kiparissov. Painting.
Главная страница
- Леонид Кипарисов. Живопись,
проекты.
Head Page - Leonid
Kiparissov. Painting. |
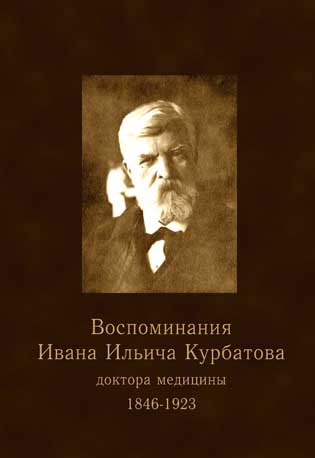 "Воспоминания Ивана Ильича
Курбатова доктора медицины 1846-1923"
"Воспоминания Ивана Ильича
Курбатова доктора медицины 1846-1923" |
||
|
Глава1.
Детство, гимназия и
отъезд из Тамбова. 1846-1865 Семья и семейное окружение. Тамбовские родственники. Детство. Военное училище . Гимназия . Уроки в семье Сатиных . Отъезд в Москву и поступление в Университет. Общественная жизнь и быт Тамбова. Мелкие чиновники . Крупные чиновники и помещики . Консисторский секретарь . Тамбовская епархия . Тамбовский суд. Тамбовские врачи и аптеки. Ярмарки . Бега. Климат Тамбовской Губернии . |
 |
|
|
Семья и семейное окружение
Помню я себя с того времени, когда мне было 3 или 4 года. Жили мы тогда в Тамбове, около Девичьего монастыря в каменном здании, которое почему-то называлось “Старое заведение”, - вероятно, в отличие от нового, стоявшего по соседству, т.е. больницы, единственной тогда во всем городе. В этом “Старом заведении” наша квартира, состоявшая из четырех комнат и кухни, помещалась в углу здания, обращенном одной стороной к Девичьему монастырю и дороге, ведущей на Воздвиженское кладбище; другой - на маленькую речушку Студенец. Ход в квартиру был с угла со стороны улицы. Все здание было каменное, какое назначение его было - я не знаю; оно было одноэтажное, имело форму буквы “П”, не имело ни одного окна на улицу, кроме нашей квартиры, а внутри двора обнесено было со всех сторон широкой сплошной галереей, сильно затемнявшей помещение. В нем постоянно работала масса солдат; здесь были сапожные и портновские мастерские (швальни). Кроме того, было еще особое, кажется, 2-х этажное деревянное здание, в котором работали столяры. С четвертой (открытой) стороны четырехугольника прилегал целый ряд погребов. Внутри четырехугольника был обширный двор, густо поросший травой, особенно полынью, достигавшей почти человеческого роста, и лопухами. Растительность была настолько густа, что мы, малые ребята, часто прятались там друг от друга, а иногда собирали в изобилии росшие там грибы-шампиньоны. Над всем этим зданием начальствовал мой отец , состоявший офицером местного губернского гарнизонного батальона внутренней стражи. Таково было название этого войска. В чем состояло назначение этого батальона, я не знаю и до сих пор, но помню очень хорошо, что отец часто говорил, что, хотя он и военный, но на войне никогда не бывал и, если будет служить и дальше в гарнизонном батальоне, на войне не будет, потому что эти батальоны не для войны назначены. Но тем не менее гарнизонных солдат учили, конечно, фронту, маршировке и стрельбе. Но последняя, вероятно в целях экономии пороха, производилась не более 3-х раз в год, летом, причем солдат делал в каждую стрельбу лишь по одному выстрелу; но тем не менее их учили, иногда довольно усердно и нещадно били ротные, тоже выслужившиеся из рядовых, но только грамотные, стало быть, бывшие унтер-офицеры. Весь батальон состоял из четырех рот; командиром его был полковник Сальватор Луизович Пагануцци, вероятно, из остатков бывшей Наполеоновской армии. Его редко кто видал, так как этот небольшого роста человек, и довольно тучный, любил не выходить из дома, кроме неизбежных к тому случаев, даже и бумаги из канцелярии ему приносили на дом для подписи. Ротные командиры были: Платон Андреевич Кривошеин, Демешко, Муратов и Шустов. Последний из них, родом из Борисоглебских мещан, отличался особенной жестокостью в обращении с солдатами; он даже на ученьи убил одного солдата за малую понятливость, проколовши его горло шомполом (тогда ружья были шомпольные, кремневые), и по суду был оправдан, так как действовал в пылу усердия к службе Его Величества. А ротный командир Демешко дальше поручика не пошел, потому что мог подписать лишь свою фамилию, а дальше все забыл. Вот эти-то сослуживцы отца и бывали у нас; все они были люди семейные, жили неплохо, некоторые даже хорошо, а сам полковник Пагануцци и жена его Анна Ивановна, замеча-тельная тем, что носила всегда платья красного цвета, жили в своем довольно большом доме, имели несколько лошадей и даже учителей для детей, из которых один сын, Владимир Пагануцци был впоследствии видным сотрудником Русских Ведомостей. Эта Анна Ивановна Пагануцци за свое пристрастие к красному цвету платьев тамбовскими остряками (тогда уже были такие) проз-вана была “тамбовской розой”. Кроме Пагануцци, остальные сослуживцы отца часто бывали у нас, вели разговоры о службе, о назначении сопровождать партии рекрутов, командировке в уездные города в должности военных приемщиков и т.п. важных по тогдашнему времени предметах. Не могу умолчать о командировке в уездные города в рекрутские присутствия. Их ожидали как манны небесной, потому что они давали такой доход, что некоторые офицеры по возвращении в Тамбов привозили с собой столько денег, что, расплатившись с батальонным командиром (не менее 600-1000 руб.) и его адъютантом, находили возможным купить себе домик. Покупки отца моего имели, кажется, такое же происхождение, тем более, что его командировали каждую зиму в хорошие города - то в Козлов, то в Моршанск, то в Кирсанов. Иногда приезжали для ревизии и смотров какие-то генералы, довольно строгие на вид; смотрели, горячились, кричали, некоторых офицеров сажали под арест в наказание за какую-нибудь неисправность солдат в строю, а потом после сытного обеда с возлиянием и получением от полковника на покрытие могущих быть в дороге экстренных расходов, спокойно уезжали. Все это было, как обычное явление, и никого не удивляло и не возмущало, но было еще до Севастопольской войны и во время ее, а потом быстро перевернулось, но воспоминание об этом, как говорили, счастливом и покойном времени еще долго жило и потом. Кроме названных лиц, было еще знакомство с семейством Васильевых. Этот Васильев Лев Степанович служил в какой-то суконной комиссии, заведывавшей приемкой солдатских сукон с местных фабрик, которых было немало в Тамбовской губернии; его отец - чиновник какой-то палаты (уголовной или гражданской), уже дряхлый старик, более 80 лет, за какие-то проделки по службе разжалованный из чиновников в солдаты, а потом опять поступивший на службу; жена старика, настолько старая, что не выходила уже из дома, и дочь ее, девица Анисья Степановна. Таков был состав семьи Васильевых. Это семейство было, кажется, самое близкое к нам, бывало часто у нас, жило в своем довольно поместительном хорошем доме, конечно, с садом и флигелем, и наши родители часто бывали у них. По вечерам, конечно, играли в карты. Масляное освещение (в лампах) тогда еще только входило в употребление, но не было распространено, а освещение стеариновыми свечами или колетовскими (по имени фабриканта их - Коллета) считалось очень дорогим (30 коп. фунт - цена очень высокая); такие свечи держались лишь как украшение, вставленными в подсвечники, поставленные на подзеркальные столики, и зажигались лишь в особенно торжественных случаях. Игра в карты сопровожда-лась, конечно, закусочкой и водкой и частыми выходами, без всякого стеснения, в сени, а женщины выходили в спальню, причем в скором времени оттуда слышался звук взбиваемых подушек, или усиленного кашля. Кроме разговоров о службе, возникали иногда разговоры и о воспитании и обучении детей, причем, наша мать всегда говорила, что она не отдаст своих детей в гимназию, потому что там ничему не учат - гимназисты делаются “непочетниками”, не уважают родителей, а только играют в лапту, да в какие-то пушечки. Откуда сложилось такое мнение - вряд ли кто мог разрешить, а оно высказывалось с полной уверенностью в непогрешимости. Про воспитание и образование дочерей тоже высказывалось оригинальное мнение. “Зачем девочке образова-ние?” - задавался вопрос. Довольно с нее будет, если она сумеет письмо прочесть и написать, да щи и кашу сварить, да мужу рубаху зашить. Стало быть, предполагалось, что дочерям предстоит будущность кухарок слабого разбора, умеющих зашивать дыры одежды. Возражения на это не выносились, да и не делались, кажется, но впоследствии, когда знакомства расширялись, а особенно с семейством Отржевских, живших на квартире в большом доме, эти мнения изменились, и даже старшая сестра отдана была в пансион Поляковой, где, кроме обычных школьных предметов, преподавался особенно усердно французский язык, учили музыке и танцам. Но зато учение младшей сестры Ольги, оставшейся 3-х летней после смерти отца, было выполнено по прежней про-грамме, и она, вполне сознававшая всю отсталость свою и нравственное убожество, вполне подчинилась матери, не смела сказать при ней ни слова, была отдана замуж за поляка-солдата, по специальности повара и через год после замужества умерла, не успевши, вероятно, зашить мужу дыры на всех рубашках. Как мы с братом Алексеем и старшей сестрой Анной ни возра-жали против этого брака, нас не послушали и погубили челове-ка. Она умерла вскоре после родов, от какого-то гнилостного процесса, по-видимому, сепсиса, оставивши после себя девочку; девочка ее тоже умерла. Товарищей у нас в детстве не было, кроме детей соседа, служившего в какой-то палате стряпчим. Это была какая-то должность вроде советника; хотя фамилия его была Успенский, очевидно духовного происхождения, но у него были крепостные, которые много терпели от своей госпожи. Впоследствии, когда я был уже в университете, меня часто навещал один из Успенских, бывший в это время землемером, служивший при судебной палате чертежником в архиве, где хранились планы всех земель России. Это было где-то в Кремле. Брат Алексей и сестра Анна были довольно дружны между собой, что-нибудь читали вместе, разговаривали, а я, как младший и едва умевший читать, конечно, не принимал участия в их разговорах и целые дни бездельничал, летом в саду, а зимой во дворе с салазками. Но в своем воспоминании я несколько уклонился от прямого пути и сделал пропуск. Чтобы сгладить это, я должен сказать, что в “Старом заведении” мы прожили, сколько помнится мне, года два или три, а потом отец купил дом на Долгой улице, около “Теплого кабака” (так определялось тогда место улицы). Скоро после перехода в этот дом отец убедился, что дом стар и гнил, и задумал перестроить его, а когда начали отдирать наружную обшивку, тесовую - увидали, что он довольно свеж еще и простоит долго, поэтому решили не перестраивать, а лишь приделать к нему две комнаты, что и выполнили. При этом доме (рядом с домом Успенских) был, конечно, и сад и в нем две громадные липы, вековые, такие большие, каких я не видал впоследствии ни разу. В это время отец начал часто прихварывать, что приписывал влиянию дома, и мало лечился, а дом, как причину болезни, возненавидел, и задумал продать его, что в скором времени и выполнил, и мы переехали на Варваринскую площадь на квартиру в д. Иерусалимского. Но и через 60 лет после продажи этого дома, я видал его в прежнем виде: все при нем осталось по-прежнему, только старые липы в саду, кажется, стали еще больше и гуще. И дом Иерусалимского стоит по-прежнему. В этой квартире мы прожили более года, протекшего без каких-либо особых перемен и замечательного лишь тем, что отец служил уже не в “Старом заведении”, а заведывал батальонной канцелярией и был в близких, почти дружеских отношениях с полковником Пагануцци; но эти близкие отношения были лишь по службе, а домами не были знакомы. Я даже не помню, чтобы мать была когда-нибудь у Анны Ивановны, или Анна Ивановна была у нас. Года через полтора - два, когда у меня был уже брат Василий, отец купил большой дом с громадной усадьбой Самсонова, на Долгой улице. Это было незадолго до начала Севастопольской войны. При доме был огромный сад, парники, хорошие надворные постройки и все удобства, только не было колодца, а потому воду брали у соседа, что, конечно, было сопряжено с большими неудобствами, особенно во время белье-мытия, или какого-нибудь подобного дела, требовавшего много воды; поэтому первым делом принялись у нас рыть колодезь и делать в саду баню, что в скором времени и сделали. Вода в колодце оказалась очень хорошей, так как грунт здесь был песчаный и, как говорили колодезники, не было и следов глины. При доме, как я сказал, был большой сад. И чего только не было в этом саду! Обилие вишен превосходного качества, разные сорта яблонь, дававших превосходные яблоки, даже какие-то такие, из которых при раскусывании брызгал сок, бергамоты громадной величины, малина, смородина и, конечно, крыжовник. Так как места свободного на дворе оставалось еще очень много, то отец, подстрекаемый своей страстью к постройкам, - он ведь по образованию был сапер - задумал построить на дворе флигель, выходящий на улицу, а раз задумал, стало быть, и исполнил. Флигель оказался очень большой, конечно, неудобный, дурно, по теперешнему мнению, расположенный, но мы в него переселились, а дом сдали в наем чиновнику, служившему в канцелярии губернатора - Н.Н. Иванову, жена которого, бывшая институтка, урожденная Отржевская, имела, кажется, влияние на то, чтобы сестру Анну отдали в пансион. Зимой отец отправился в Моршанск, в командировку, для приема рекрутов и взял с собой для чего-то брата Алексея, и возвратился оттуда с большой суммой денег, которые он считал с матерью; а брат даже похвалялся передо мной несколькими золотыми и серебряными деньгами, значения которых я еще не понимал; но мне было досадно, что у меня нет ни одной монеты. Он говорил, что эти деньги давали ему мужики за то, чтобы он почаще напоминал отцу их имена. Это своего рода дополнения; о развращении ребенка, которому не было еще и 10 лет, не думали. Так просто и естественно смотрели на подкуп. В следующее затем лето не произошло ничего особенного, но стали дома все чаще и чаще говорить о возможности войны; говорили, что французы и англичане - “мерзавцы”, а турок всех следует передушить, чтобы они знали, как можно не слушаться русского царя. Война началась. Все, понимавшие ее значение, ходили какие-то мрачные, говорили друг с другом шепотом, передавалось что-то ужасное, но что именно - мы не знали и не понимали. К нам на квартиру временно поставлены были почему-то донские казаки, шесть человек, с лошадями, пиками и ружьями. Казаки в кухне вели себя довольно скромно, только пили по целым дням чай, который не сходил у них со стола. Одеты они были в ту же форму, которая у них и теперь. Почему их из земли Войска Донского направили в Тамбов, а не направили к Одессе и к Севастополю, где сосредоточена была война - было неизвестно. Надо полагать, что про то знало лучше начальство. Едва отбыли от нас казаки, как в скором времени приехали невиданные нами люди - киргизы и калмыки, не говорившие по-русски ни слова, почему все наши слуги считали возможным бранить их громко и всякими непристойными словами, не ожидая сдачи. Одеты они были в меховые халаты, меховые шапки, у некоторых были ружья, а у иных - луки и стрелы и арканы. Довольно странное вооружение в половине XIX века, когда имелись у противника и скорострельные ружья, и нарезные орудия. Эти народы, пробывши у нас несколько дней, уехали, не оставивши после себя никаких воспоминаний, кроме тех, о которых я только что сказал. Затем стали появляться пленные турки, французы и англичане. Пленных итальянцев я не видал, да и не мог бы отличить их от других, но французов и турок было очень много. Некоторые из французов по окончании войны остались в Тамбове, обзавелись семействами, а потом и своими домами; им почему-то нравилась наша “Инвалидная сторона”, где у них было несколько домиков. Дома у нас и у других в это время усиленно щипали корпию, шили простые рубашки; все это предназначалось для наших раненых, но дошло ли по назначению - неизвестно. Впоследствии, когда я читал описание этой войны Н.И. Пирогова, было известно, что к противнику от нас какими-то темными путями попадало многое, а у наших раненых не было и соломы, и больные и раненые лежали в грязи, без перевязки. Много лет спустя, когда я был земским врачом в Сапожковском уезде, в с. Путятине, один из мелких помещиков, уже очень старый отставной полковник Введенский, получивший образование на филологическом факультете, предлагал мне купить у него несколько пудов корпии, которая хранилась у него на чердаке, где у него был склад ее; а образовался склад из приношений уже готового материала от разных лиц, главным образом, многочисленных родственников, но он не успел своевременно отослать его по назначению жертвователей и теперь хотел сделать выгодный для него, как говорят евреи, “гешефт”, получивши за полежалое за 15 лет. Он был очень удивлен, когда я сказал ему о предосудительности сделки за плату, а не даром. Таков был взгляд даже у филолога на приобретение! Что же можно было ожидать от гарнизонных офицеров или интендантов, для которых (конечно, последних) война была своего рода покосом. Отец мой во время окончания войны уже совсем расхворался - настолько, что не выходил из дома и лежал. Чем он болел, я не знаю, но вероятно у него было что-нибудь или в сердце, или в печени, так как одним из признаков болезни была водянка живота; живот его был огромный и дыхание затруднено. Лечил отца доктор, навещавший его ежедневно, а после отъезда доктора на сцену являлась знахарка со своими средствами, давала ему отвар тараканов, мокриц, которых в Тамбове можно было найти сколько угодно; сажали его и на паровую ванну. Это последнее состояло в том, что в комнату к больному вносилась невысокая кадушка, немного больше меры, в нее вливалась горячая вода, наверх сажался больной, его окружали всего, кроме лица, войлоком, спускавшимся до пола, а затем, приоткрыв войлок, бросали в воду раскаленные камни или чугунные гири. Поднимавшиеся пары охватывали все тело. Конечно, больной сидел под войлоком голый. Однажды, когда больной сидел на такой бане, вернулся уехавший уже доктор Фальк (главный врач Губернской больницы), пристыдил отца за малодушие, сказав ему, что надо лечиться у кого-нибудь одного, т.е. у Фалька, или у знахарки. Отец был, конечно, сильно сконфужен, растерялся и сказал, что это уже в последний раз, и. действительно, все советы приятелей были им оставлены. Лечение пошло лучше, но все же отцу сделали операцию - прокол живота (paracentesis), причем, выпустили 1,5 конных ведра жидкости. После этого он скоро поправился настолько, что мог еще служить года два или три, и умер от случайной болезни, как я говорю в другом месте воспоминаний.
Летом 1856 года мать наша повезла меня с братом Алексеем в город Нежин в военное училище, куда мы были приняты по прошению отца, не желавшего, чтобы мы учились в гражданской школе, а непременно в военной, и стали бы впоследствии военными, а не “шпаками”, или “скворцами”, т.е. гражданскими чиновниками. О том, что я могу сделаться врачом, а брат - инженером, технологом, конечно, никто не думал, да и названий-то этих никто не знал. В конце мая 1857 года я вместе с братом Алексеем, с матерью и сестрой Анной приехали из Киева, где мы с братом учились и хворали. Впоследствии, если достанет времени, я расскажу о нашем пребывании в Нежине, куда поступили сперва, а впоследствии были переведены в Киев. Но теперь мне не хочется вспоминать это крайне грустное время моей жизни. Я лучше буду говорить о том, как шла жизнь в Тамбове и о моих гимназических годах. Итак, мы вернулись в Тамбов, жили мы в это время уже не в том большом доме, из которого выехали в Киев (на Долгой улице), а в другом, дальше в Инвалидной, по Солдатской улице, который был куплен отцом незадолго до отъезда матери за нами в Киев. Я еще и теперь хорошо помню этот дом со всеми его подробностями, так как мы жили в нем до отъезда брата Алексея в Петербург, где он поступил в Технологический институт по окончании гимназии, т.е. до 1863 года. Дом этот был довольно прочный, хорошо устроенный, с железной крышей, ошту-катуренный и оклеен внутри обоями, а снаружи обит тесом и выкрашен так называемой “дикой краской”; все надворные постройки при нем были довольно прочные, из хорошего материала, из какого редко строят даже дома в Тамбове. На дворе был колодезь с воротом, а в саду - баня. В саду была масса малины, яблонь, вишен, оставалось еще место для гряд. Сад и двор обнесены были забором из теса. В доме было всего пять комнат и громадная кухня. Насколько этот дом был прочно сделан, это видно уже из того, что впоследствии, лет через 35-40, когда я приезжал в Тамбов по какому-то случаю и посмотрел на него, то заметил, что он стоял все в том же виде, в каком мы оставили его в 1863 году, по крайней мере, внешнего ремонта у него не было; надворные постройки оставались те же и, пожалуй, в том же виде. Но отец невзлюбил его и задумал перестроить, т.е. сломать, а на место его поставить новый, сколько мне помнится, не особенной большой, но довольно оригинальный. Оригинальность его состояла бы в том, что у него не было бы ни одного окна на улицу, по восточному обычаю, и, кроме того, он был бы выстроен из очень толстых бревен, для экономии материала распиленных вдоль пополам. Конечно, такой дом должен был бы быть холодным. Но отец, вероятно, не принимал этого в соображение и принялся за приготовление материала. Раз он что-нибудь задумал, он не останавливался перед препятствиями и неуклонно шел к намеченной цели, хотя цель эта бывала до нелепости смешна, как, например, отвоз меня с братом в Киев. И вот началась заготовка строительного материала: привозили и складывали кирпич, железо, бревна, наложили их массу на улице, так как на двор поместить их не могли, и тут же начали распиливать; в декабре отец снова был за покупками строительного материала на щепном дворе (место продажи строительного материала), простудился там, заболел, как теперь соображаю, крупозным воспалением легкого, и в ночь с 19 на 20 декабря умер на 7-й день болезни. Нас осталось после отца шестеро ребят, из которых старшей сестре не было еще и 15 лет, а младший братишка был грудной. Хорошо помню я это время, все процедуры похорон, заупокойных служб и прочее, так как это еще в первый раз мертвец был в нашем доме, человек близкий нам, и все это врезалось в моей памяти. Хоронили его 22-го декабря с музыкой (как военного) и ружейной пальбой, хотя погода была при глубоком снеге очень морозная, какая бывала, вероятно, обычной в то время в Тамбове. После похорон отца начались усиленные хлопоты о получении пенсии и по продаже заготовленного строительного материала, так как строиться мать не хотела, да и не могла, кажется, за неимением денег, а главное потому, что дом был довольно прочный и все знакомые уговаривали ее не затевать перестройку. Строительный материал был взят обратно теми же купцами, у которых куплен, конечно, с соответствующей уступкой, а ходатайство о пенсии взял на себя ходатай по судебным делам, своего рода адвокат Иван Федотович Тимофеев. В то время еще не было имени “адвокат”, а было или “стряпчий”, или “ходатай”. Брат Алексей в это время учился во 2-ом классе гимназии, куда определил его еще отец, а меня не приняли в гимназию и даже не допустили до экзамена, потому что у меня не было метрического свидетельства. Об этом не позаботились своевре-менно и не знали, где достать его, так как знали, что я родился в Ковенской губернии в жидовском городке Шавли или Кельши, где не было ни одной русской церкви, а крестил меня полковой священник. У него метрическую выписку не взяли, а впоследствии это обстоятельство послужило к тому, что директор гимназии наотрез отказал отцу принять меня в гимназию, а был принят лишь один брат. Впоследствии мое метрическое свидетельство было получено из Литовской духов-ной консистории и служило свою службу мне и в Тамбове, и в Москве, и дальше. В ожидании принятия меня в гимназию на будущий год начали готовить меня. Учителем был дьякон приходской церкви Василий Кондратьевич Марлинский, живший почти против нас в своем доме, купленном для него, по дружбе, моим отцом за 200 руб. с усадьбою. К нему я бегал каждый день, делал грамма-тический разбор, писал под диктовку, когда он бывал дома, а когда его дома не было, бездельничал. Но отец дьякон не умел читать ни по-французски, ни по-немецки, а меня хотели по примеру брата определить во 2-й класс, для поступления в который требовалось знать программу 1-го класса, где уже преподавались эти языки. И вот решили посылать меня к какому-то Александру Яковлевичу Ришар, который был учителем рисования и черчения в местном уездном училище, вполне владел этими языками и безупречно - русским. Он, видимо, был по происхождению француз-эльзасец, а как попал в Россию, мы не знали. Вот этот-то Ришар и взялся подготовить меня во 2-й класс, в два месяца, с платой по 15 руб. в месяц, с тем, чтобы я приходил к нему каждый день. Но так как его часто не бывало дома, со мной должна была заниматься старушка, сестра его, плохо говорившая по-русски и почти все время проводившая в кухне, а меня оставлявшая для занятий с одним из мальчиков, сыновей торфмейстера Гроссмана, живших у нее. Этот мальчик-немец, был почти полуидиот, но кое-как сам умел читать лишь по-немецки, а по-французски, кажется, не знал ни одной буквы. Результаты такой моей подготовки не замедлили сказать-ся: когда дело дошло до экзамена в гимназии, я не мог прочитать по-французски ни одной строчки, почему меня и приняли лишь в 1-й класс, а когда обидевшийся на это о. дьякон Василий говорил об этом обстоятельстве с Ришаром и выставлял на вид мою малоуспешность, сестра объясняла это тем, что я с “большая леном”. Но так ли, сяк ли, а я в конце августа 1858 года поступил в Тамбовскую гимназию и в тот же день надел гимназический сюртук с красным воротником, запасенный еще с прошлого года заботливыми родителями, когда они хотели определить меня вместе с братом, но не могли по своей беспечности. Тут мне предстояло пробыть семь лет и, надо сказать, - лет довольно трудной, нудной жизни. Жили мы в это время уже бедновато, благодаря неуме-нию жить матери и неумению обращаться с теми деньгами, которые были у нее, как оставшиеся после продажи строитель-ного материала на довольно крупную, по тогдашнему времени, сумму, а через год или полтора ей стали выдавать и пенсию в размере 200 руб. в год, из которых 100 руб. собственно ей и 100 руб. - детям на всех до наступления каждым совершеннолетия. В те времена на эти деньги можно было бы жить в Тамбове, где жизнь была баснословно дешева, когда лучшая говядина стоила 4-5 коп. сер. за фунт, баранина около 1,5 - 2 коп., а в остальное время не более 3-х коп. Черный хлеб продавался на базаре, притом хлеб наилучшего качества по 1,5 коп. меди, т.е. на 1 копейку серебром давали более 2-х фунтов, так как 1 коп. серебром, как значилось на монете, содержала в себе 3,5 коп. медью, а двухкопеечная монета - семь копеек; гривенник ценился в 35 коп., двугривенный в 70 коп., рубль - целковый - в 3,5 рубля. Цены всех продуктов я знал отлично, потому что на моей обязанности лежало до ухода в гимназию побывать на базаре и купить все, что заказано, т.е. хлеб, мясо, картофель и еще что скажут. Ходил я на базар или один, или с кухаркой. Мать находила это занятие ниже своего достоинства. Выходило много денег на белый сдобный хлеб для матери, который приносил каждый день булочник Широков, на кофе, лакомства и водочку. До всего она была большая охотница и любила полакомить себя с приходившими к ней приятельницами, над которыми она сама же потом подсмеивалась. Зимой немало выходило денег на подачки разным монахи-ням, странствующим богомолкам и монахам - вообще разным лицам, причисляющим себя почему-то к духовному званию. Это делалось, может быть, потому, что она была по происхождению дочь священника, хотя и полкового, но все же священника. А летом выходили деньги на путешествия с целью богомоления, то в с. Мамонтово, где была будто бы явленная икона Николая Чудотворца, то в Воронеж к Митрофанию Угоднику, то в Задонск к Тихону Угоднику. Помню очень хорошо эти поездки. Они совершались всегда так. Приглашался ямщик Петр (знакомый), и с ним делался договор о поездке в указанное место на тройке лошадей с кибиткой, о пребывании на месте определенного количества времени и о приезде обратно. Содержание лошадей и человека полагалось обыкновенно на его счет; часть денег выдавалась при заключении договора, часть там, куда нужно было ехать, а остальные - по возвращении. В назначенный день приезжал Петрушка (так обыкновенно звали его) на тройке с бубенцами и с громом и стуком по улице, нарушая сонный всегдашний покой обывателей, останавливался около наших ворот; поднимался отчаянный лай собак по всему переулку, у каждого дома отворялись окна, в которые высовывались любопытные встре-воженные лица; некоторые спрашивали даже - кто это поедет и куда именно. Затем торжественно отворялись ворота, тройка въезжала во двор, поворачивалась, ворота затворялись, и начиналась укладка вещей. Непременно клалась на дно повозки перина, затем подушки, разные узлы и узелочки, уже не помню с чем, кажется, с бельем и одеждой. Когда все намеченное было уложено, мать говорила обыкновенно: “Ну, теперь, кажется, все?”. Затем она садилась в комнате, должны были сесть и все присутствующие, помолчать, а потом пожелать счастливого пути, а она, со своей стороны, всегда говорила одни и те же слова: “Смотрите, с огнем - как можно осторожнее”. Затем она вставала, молилась Богу, что делали и остальные, прощалась со всеми и одевалась, причем непременно на голову повязывалось два платка, один из которых, сложенный в виде галстука, клался под нижней челюстью серединой, проходил через уши, закрывал их и завязывался на макушке, а другой - срединой клался на лбу, а концы его завязывались на затылке. Сверх этих платков, обыкновенно бумажных, с розовыми клеточками, голова покрывалась теплым шерстяным платком, несмотря ни на какую погоду, хотя бы в 25-30 градусов тепла. Принарядившись таким образом, она выходила, садилась в повозку, конечно, вытянувши там ноги; если кто-нибудь ехал с нею, его наряжали почти так же и сажали с меньшими удобствами только. Затем слова “все готово”, кто-нибудь из остающихся, обыкновенно я, отворял ворота, тройка выезжала, мчалась во всю прыть по переулку, но при повороте на площади уже умеряла свою прыть. Все эти обычаи из буквы в букву, без малейшего измене-ния повторялись при каждом отъезде ненарушимо. Семья оставалась без руководителя и призора, лишь старшему давалось немного денег на необходимые расходы. А расходы на поездку были немалые, редко меньше 50 рублей за одну только езду. Так что две поездки в год составляли уже значительную по тому времени сумму.
В доме на Солдатской улице прошло пять лет моей гимназической жизни, о чем я говорю в другом месте своих записок. Из этого дома уехал брат Алексей в Петербург (в 1863 г.), брат Василий, учившийся в это время в Тамбовском кадетском корпусе, по упразднении корпуса переведен был в Воронеж; самый младший брат Сергей умер; старшая сестра Анна вышла замуж за Павла Николаевича Покровского, уже вдовца, имевшего от первой жены сына - Дмитрия Павловича, впоследствии земского врача в Борисоглебском уезде. Это замужество было для сестры совсем нежелательное, даже насильственное, состоялось по желанию матери даже в такое время, когда сестре не было еще полных 16 лет, так что для венчания спрашивалось разрешение Архиерея. Так как мать непременно желала этого брака, а сестра не хотела дать слово жениху, то мать принудила ее к этому насильно, т.е. просто-напросто высекла веревкой. Это сечение было что-то безобразное, непостижимое для нас, но, вероятно, вполне правильное для матери, которая была вполне уверена в своей правоте; оно производилось над дочерью-девицей почти 16 лет, которая была помолвлена за молодого помещика Подъямпольского и который ей взаимно был симпатичен. Ему было, по капризу матери, отказано, с тем, чтобы выдать сестру за Покровского. Этот последний брак устраивался при содействии бывшего сослуживца отца офицера Шустова. Покровский до тех пор бывал у нас раза два или три и жил почти по соседству с нами, незадолго до того приехав из Борисоглебска. Порка веревкой продолжалась что-то очень долго, до тех пор, пока сестра, наконец, сказала, что она пойдет за Покровского, на что мать заметила ей: “Смотри же, завтра же скажи Покровскому, что согласна идти за него, а не то каждый день буду так же пороть тебя”. Сейчас же после порки мать отправилась из кухни, где производилась экзекуция, в спальню и начала вслух читать перед образом Псалтырь. Что это такое было? Психоз, каким страдал Иван Грозный, то же, но в меньшей степени и в миниатюре, или что-либо другое подобное? Можно лишь предполагать, что ей самой хотелось выйти замуж, но для этого считалось неудобным иметь взрослую дочь-девицу, а потому стремилась выдать ее за того, за кого она сама пожелает, чтобы выказать свою родительскую власть. А у самой ее был уже жених, которому мать дала уже свое слово - Аркадий Иванович Казанцев, отставной военный офицер, служивший по откупу (тогда водка и все изделия из нее продавались откупщиком на всю губернию и это дело, стоившее в год много миллионов, требовало массу разных служащих). Когда уехал брат, мы назавтра же переехали на квартиру, а дом был продан за 7100 руб. со всем, с усадьбой; переехали мы в дом одного француза - Mr. Petain, не пожелавшего по окончании войны возвратиться во Францию, а принявшего русское подданство. Я был уверен, что в новой нашей квартире будем жить мы трое, т.е. мать, я и сестра Ольга. Но каково же было мое удивление, когда у нас же поселился и Аркадий Иванович Казанцев, а также и прибывший с Кавказа брат Александр (от первой жены отца). Я в это время был уже в 6-м классе гимназии, стало быть, в таком возрасте, когда дети перестали называть всех мужчин дядюшками, а смотрят на них иначе. Этот же дядюшка жил у нас несколько лет и после этого, даже тогда, когда весь дом состоял из двух комнат и кухни. Дела у него не было никакого, поэтому он ради разнообразия ходил каждый день в церковь, где не столько молился, сколько нюхал табак с такими же бездельниками, как и он. Так как в это время пенсия матери была уменьшена за достижением детьми известного возраста, т.е. она получала лишь 10 руб. в месяц, то, конечно, вырученных от продажи дома 7100 руб. хватило ненадолго; хотя я получал в это время рублей 12-15 с уроков, которые давал, но и этого всего не хватало, так как приходилось платить за квартиру, а образ жизни был тот же, т.е. были монахи, странницы, богомолья - и кофеек и водочка не забывались. Поэтому жизнь была невеселая и питание скудное. В это время я был уже в 6-м классе гимназии, как я сказал выше, а в то время они, т.е. гимназии, были 7-ми классные, без разделения на классические и реальные.
Тамбовские родственники
У моего отца был родной брат, простой мужик из Моршанского уезда, села Левые Ламки, государственный крестьянин. Он был немного моложе моего отца, часто приезжал к нам, всегда с одной и той же просьбой - что ему очень нужны деньги на уплату подушных податей. Отец, конечно, внимал на просьбу брата, давал деньги, хотя и знал, что тот не довезет их до дома, но все же давал, а деньги действительно не доезжали до дома, а только до села Сосновки, лежавшего попутно, где был особенно большой кабак, а в нем ласковый и приветливый целовальник (продавец), и вся получка от брата оставалась там. Каким образом отец попал в военную школу времен Аракчеева и потом стал военным человеком, начиная с самых низших чинов - все это осталось мне неизвестно, хотя, помню, отец рассказывал, что он проходил через очень суровую школу; брат же его, о котором я говорю, Анфиноген Исаевич, так и остался мужиком, даже был неграмотный. Он был великий пьяница и, несмотря на то, что земли Моршанского уезда славятся на всю Россию своим плодородием, и на часто получаемые и немалые денежные пособия от брата, жил бедно, чуть ли не был самым бедным во всем селе. Бабы его, то одна, то две тоже часто живали у нас в доме, но только зимой. Тогда мы не задавались этими вопросами, почему они жили только зимой, а не летом у нас, но потом стало ясно, что это делалось с экономической целью, чтобы лишние рты уходили из избы, а летом эти самые рты делались в то же время и работниками, стало быть, нужны в деревне. Конечно, бабы эти занимались своим делом, т.е. пряли лен, который привозили с собой иногда почти целым возом, занимались разговорами и сплетнями с кухаркой, так как жили обыкновенно в кухне, и жаловались на свою судьбу и бедность и на дурное обращение с ними дяди, т.е. Анфиногена или, как они называли его, Финогена, а за глаза - просто Хвинка. Мать никогда не заставляла их делать что-нибудь для нас, например, мыть полы или белье, вероятно потому, что не желала, чтобы говорили, что она эксплуатирует бедных родственников своего мужа, хотя этого выражения тогда еще не было. Хотя и не сразу, а постепенно, но все же бабы успевали во время своего житья у нас скопить у себя кое-что из выпрошенного и уезжали домой с хорошей поклажей, которая уже не заезжала в Сосновку, а довозилась до Ламок. Так шло дело из года в год, и обыкновенно с первым же снегом они являлись к нам. Иногда отец делал им довольно хорошие подарки, например, я помню, что он подарил им корову, потом купил им лошадь и еще что-то. Но все это скоро пропивалось дядей. После смерти отца они перестали приезжать, видя, что теперь нечем поживиться. В последние годы моей службы в Павловской больнице одна из этих баб, о существовании которой я и не знал ничего, явилась ко мне, как к родственнику, и, конечно, жаловалась на бедность, т.е. давала понять, что ей нужна подачка. Я дал ей шесть рублей, сказавши, что это ей на дорогу. Она, видимо, осталась довольна и этим, а на следующее лето, во избежание расходов на приезд в Москву, прислала письмо, в котором просила прислать ей денег уже прямо в деревню, потому что ей они нужны на торговлю, и притом немало, а именно сто рублей. А когда на это письмо не последовало ответа, за ним явилось другое, в котором она просила выслать ей денег поскорее на путешествие в Иерусалим, чтобы там помолиться Богу и за меня, и за сородичей моих. И опять ответа с моей стороны не было, в результате чего - прекращение переписки. О других родственниках ни со стороны отца, ни со стороны матери я не знал. Как-то однажды в Павловскую больницу яв-ляется какая-то старушонка и говорит мне, что она моя родня со стороны матери, именно - моя двоюродная сестра. Из дальнейших разговоров выяснилось, что она действительно родственница, жившая у нас в первое время нашей тамбовской жизни, когда мне не было еще и трех лет. Она была три раза замужем, жила в последнее время на берегу Черного моря в городке Геленджике, где у нее был небольшой домик. Оказалось, что земский врач в Путятине , поступивший потом на мое место, - Петр Федорович Трофимович - ее пасынок, а может быть, и сын - не помню. Стало быть, и Трофимович мне родня.
Детство
Я мало что помню из своей жизни в здании “Старого заведения”. Припоминаю только, что летом мы бродили по двору, заросшему полынью и бурьяном выше нашего роста, а зимой проводили время дома, кувыркаясь на кровати через подушки; на одной и той же кровати мы трое спали все вместе, укладываясь поперек нее, а если когда и выходили зимою во двор по какому-либо случаю, то всегда по одиночке, потому что для всех нас был один полушубок и одни валенки, которые были всегда около двери, и родители строго следили за тем, чтобы приходящий домой снимал их тут же и ставил на место. Дома, конечно, ходили босиком и в одной рубашке. Впоследствии меня одели в штаны, с прорехою и спереди и сзади, правильнее сказать - две половины штанов, соединенных на широком поясе, причем при ходьбе у меня позади обычно выставлялся подол рубашки (она всегда вправлялась в штаны) в виде овечьего хвоста. Так как никто не научил меня, как нужно обращаться со штанами при исполнении известной надобности, а сам я догадаться не мог, то, конечно, возвращался в комнату со двора и мокрый, и запачканный, а домашние мои, как только замечали за мной такую неисправность, начинали бранить меня и даже бить. Вообще штаны причинили мне много горя. Потом уже, когда мне было лет пять или шесть, жившая у нас старуха, в виде няньки, научила меня, как нужно обращаться со штанами в известных случаях. И когда я понял это, ликованию моему не было конца. Еще бы не ликовать, когда избавился от ежедневных колотушек по одному только этому поводу. Мое неуменье обращаться со штанами, кажется, послужило поводом к тому, что все домашние мои, по чьей-то инициативе, звали меня дураком, и до такой степени я часто слышал это названье, что и сам стал думать, что я дурак, хотя был такой же, как и другие, не носившие это название. Ведь я хорошо понимал все, что делалось вокруг меня, только не мог высказать всего, частью потому, что у меня был очень небольшой запас слов, а частью и потому, что как только я начинал говорить, надо мной тотчас же смеялись, прибавляя: “Вон дурак-то наш заговорил”, и вслед за тем влетала откуда-нибудь колотушка, обыкновенно или по голове, или по спине. Не бил меня только тот, кому лень было поднять руку. Дозволялось или не возбранялось меня бить и прислуге, т.е. няньке и кормилице брата, которые, кажется, старались в этом деле перещеголять одна другую. Я не помню, чтобы я ревел по поводу тумаков, настолько привык к ним, - как старая почтовая лошадь, которая даже и хвостом не махнет, если ее ударяют кнутом. А орал я или вопил лишь тогда, когда побои были особенно сильны и терпеть их не было возможности. Синяки с меня никогда не сходили. Пороли же ежедневно, или почти ежедневно, а иногда в день и не один раз по убеждению, что я дурак. И только та же нянька-старуха, которая научила меня, как нужно расстегивать штаны, одна она вступилась за меня и вразумляла, что я вовсе не дурак, не “глупой”, и что меня нужно учить, а не бить; ее мало слушали, но все же послушали, как старуху, живавшую в других домах при детях, и шишки на голове у меня стали подживать. Она же, кажется, повлияла и на то, что меня стали учить грамоте, а до тех пор говорили: “Ну, куда ему, дураку! На что ему нужна грамота?”. В чем должна была, по мнению говоривших так, состоять моя дальнейшая участь, какова моя будущность - вряд ли кто думал об этом. Даже и знакомые-то наши, видя, как со мной все обращаются и как меня величают, стали думать, что я действительно дурак, и нисколько не удивлялись этому, говоря что “в семье не без урода”. Я так и понимал, что в семье непременно должен быть урод, но почему именно я урод, а не кто другой - этого я понять не мог. И когда потом родился брат Василий, я был уверен, что мое уродство перейдет к нему, но я жестоко ошибся: старая кличка осталась за мной вплоть до поступления в гимназию и даже потом, когда, перейдя из первого класса во второй с наградой, я принес похвальный лист и с гордостью предъявил его матери, думая, что теперь она не скажет, что я дурак и что она раньше ошибалась относительно меня. Она сразу разочаровала меня, говоря, что если я получил награду, то только благодаря ей, потому что она меня учила, т.е. попросту била. Присутствовавший при этом разговоре П.Н. Покровский, тогда уже зять наш, заметил ей, что если бы меня не били, так я давно бы выказал свои способности и все убедились бы в том, что я не дурак и не лентяй. Но это замечание и возражения настолько не понравились ей, что между ними возник довольно крупный, неприятный разговор. Старшие брат и сестра в то время, когда стали уже большими, читали довольно бойко. Книги для чтения, конечно, не выбирались. Тогда еще не было и названия “детские книги” или “чтения для детей”, а потому и дети читали то же, что читали и взрослые. Я помню очень хорошо, что брат и сестра читали роман “Парижские тайны” Евг. Сю, что-то Александра Дюма и “Камень веры” - основы православного вероучения, “Битва русских с кабардинцами”, “Три мушкетера”, кажется, тоже Дюма, а на стене в черной раме висели даже картины плохой литографии, из которых на одной были изображены мушкетеры в молодости, а на другой - в старости. Картины эти были у нас что-то очень долго, и куда они девались - не знаю. Игрушки нам покупались обыкновенно зимою на базаре, какие-то такие, что одни говорили, что это генерал, а другие говорили, что это монашенка - настолько они были похожи и на то и на другое. Выделка их была несложная. Это было тонкое полено, выкрашенное или в желтую краску (охру), или в красно-бурую (бакан); на одном конце была сделана какая-то вырезка - нам говорили, что это у нее или у него лицо, смотря по тому, кем игрушка должна была служить; на лице были даже и глаза, напоминавшие рыбьи, но отнюдь не человечьи. Мы могли их одевать или в полотенце, или в какую-нибудь тряпку, или бумагу, говорили за них. В этом была и вся игра. Впоследствии и генерал, и монашка поступали в печку на щепу. Летом, когда было тепло, игры были в саду. Я любил делать там печи из глины, и маленькие и большие и, если доставал спичек, затапливал их стружками и однажды, сделавши такую печку около деревянного забора, затопил ее, и так как не было большой трубы, то пламя пошло на забор и он чуть-чуть не загорелся. Огонь вовремя погасили, а мне воздали должное, чтобы долго помнил, что нельзя разводить огонь около забора. Раньше у нас не было никаких товарищей или сверстников, нас с собой родители не брали никуда, кроме церкви, где заставляли усердно молиться, не знаю о чем; молитв я не знал никаких, и моленье мое состояло в крещении и земных поклонах - до того усердных, что на лбу делалась краснота, а потом даже кожа на этом месте омозолела. При отсчитывании, или правильнее - отстукивании, поклонов я старался шептать или просто двигать губами, беря за образец какую-нибудь старуху, которая молилась поблизости. И я получил мнение набожного, хотя, как сказал уже, не знал ни одной молитвы и не имел ни малейшего понятия о том, что я делал во время этой гимнастики. Заучивание молитв почему-то было одновременно с тем, как я учил историю Ветхого Завета о том, как “Кир, царь Персидский, покорив царство Вавилонское, дал свободу евреям возвратиться в свое отечество, построить Иерусалим, а в нем Храм Божий”. Заучил я, прежде других молитв, “Богородицу”, конечно, не понимая в ней ни слова, и очень добивался узнать, что это такое значит - “плод чрева твоего”, но никто не мог дать мне объяснения; спросить у матери я не решался, отец всегда был занят, с ребятами не разговаривал, да как бы он стал говорить с таким мальчишкой, которого все звали дураком? Это было бы ниже его достоинства. Оставалось спросить у кучера Петра Чеботарева, но и он был очень неразговорчив; нянька на мой вопрос только посмеивалась; так этот вопрос для меня надолго оставался нерешенным и непонятным. Потом уже в гимназии объяснили мне сущность дела, и я был крайне удивлен тем, что мне сказали. Это объяснение стояло с другим, по поводу хвалебной песни Богу - “Te Deum laudamus - Тебе Бога хвалим”, в ней тоже говорится про девическое чрево, что Бог не погнушался ею. Это объяснение, полученное уже в гимназии, дало мне понятие о том, что такое “чрево”. Еще до поездки в Нежин нас (троих) учил оканчивающий курс семинарист Иван Иванович Малинин, по окончании семинарии сделавшийся священником в с. Мордове и, стало быть, роковым образом окончивший с нами занятия. После него до отъезда я не помню никакого учителя. До какой степени ничтожно было вознаграждение учи-телей - это видно из того, что этот Малинин, считавшийся одним из лучших семинаристов в классе богословском, занимаясь с нами троими разного возраста и знаний, получал за ежедневные занятия всего три рубля в месяц. Это я знаю потому, что не раз видел, как отец, отдавая ему три серебряных рубля, пригова-ривал: “Продолжайте и дальше”. У него-то я и научился читать. Учился я арифметике по руководству Манорского. Это была нетолстая книжка, напечатанная на синеватой мягкой бумаге, со множеством каких-то узлов и бугорков на ней, которые я любил выковыривать; бумага эта была более бы годна для какого-нибудь другого употребления по своей мягкости, чем для напечатания на ней арифметики. Вся книга состояла из вопросов и ответов; составитель книги предполагал, что вопросы предлагает учитель, а ответы дает ученик. Первый урок мой состоял в том, что я должен был заучить наизусть следующее: Вопрос: Что есть арифметика? (писалось через О). Ответ: Арифметика есть наука о числах. Вопрос: Что есть число? Ответ: Собрание единиц одного рода есть число. Вопрос: В чем изображаются числа? Ответ: Числа изображаются цифрами, кои суть: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 0. Вопрос: Как изображаются числа? Ответ: Чрез постановление в ряд сказанных цифр без нулей или с нулями. Вопрос: Что есть единица? Ответ: Всякая вещь, сама по себе взятая, есть единица. В этом состоял первый урок. Мог ли я понять в нем что-нибудь - пусть подумает тот, кто будет читать эти строки. Преподаватель, конечно, не делал никаких объяснений. Сущность этих ответов я узнал уже потом, много времени спустя, а вслед за первым уроком следовал и второй, такой же мудреный. Но так ли, сяк ли, а я все же постиг мудрость писания чисел с постановлением цифр и без нулей и с нулями, и с грехом пополам - таблицу умножения, но деление давалось мне с большим трудом потому, что я не мог понять, что значит “сколько раз делитель содержится в делимом”. Потом одолел и это, как-то без посторонних объяснений и настолько усвоил себе все это, что когда подготовлялся в гимназию, то мой учитель дьякон В. Конд. Марлинский часто пасовал передо мной. Известно всем, что духовенство хорошо знает все правила сложения и умножения, но отнюдь не деления.
Так протекала моя жизнь в детские годы: скучно, нудно, с побоями, колотушками, порками, всякими оскорблениями. Здесь, между прочим упомяну, что у нас в доме была очень долго и плеть в шесть ремней, соединенных посредством медного кольца с рукояткою, сделанной из ноги дикой козы. Хорошо я помню эту плеть, потому что она часто ходила по моей спине, да и не только по спине, а иногда и по лицу. Синяки от нее оставались всегда на несколько дней. А когда кто-нибудь из посетителей - гостей видел меня такого расписанного - когда не успевали спрятать меня от глаз гостя - и упрекал родителей за жестокое обращение с мальчишкой, на это отвечали ему обыкновенно, что это делается не по охоте, а с сокрушенным сердцем, ибо и в Писании сказано “Аще любиши чадо твое, сокруши ребра его”. А в другом месте, именно в книге Иисуса сына Навина, говорится, что не искалеченный сын есть болезнь матери его. Есть и другие места в Писании, говорящие подобным же образом. Может быть, и есть - не знаю.
Военное училище
Итак, летом 1856 года нас с братом Алексеем повезли в Нежин. Это случилось потому, что школа помещалась в Киеве, в собственном громадном здании, которое цело и до сих пор, а во время войны Севастопольской все казенные здания на Юге были освобождены для помещения в них раненых и больных, прибывавших из Крыма; в том числе освобождено было и здание нашей школы, а воспитанники ее переведены были в Нежин Черниговской губернии и размещены здесь в обывательских домах. Почему был избран для этого город Нежин, а не какой-либо другой - оставалось неизвестным; вероятно, это случилось по желанию Императора Николая I, знавшего о таком городе; ведь не даром же он создал особое сословие в России “Нежин-ские греки”. Поехали мы на тройке лошадей, запряженных в кибитку, ехали, конечно, с одним и тем же ямщиком, что-то за очень высокую цену, выезжали с постоялого двора рано утром, почти на рассвете, и к 9-10 часам утра останавливались кормить лошадей, а потом часов около 3-х выезжали опять и ехали, смотря по тому, должны ли были лежать большие села или города на пути, часов до 6-8 не более, и останавливались ночевать. Утром в пути я и брат, конечно, спали и не видали ничего замечательного. Помню только то, что я, не доезжая до какого-то города, потерял во сне сапог, так как нога у меня высунулась из повозки наружу, и сапог соскочил с нее. Хотели меня за это выдрать, да упросила ехавшая с нами женщина не делать этого, уверяя, что я тут не повинен: ведь все спали. Пришлось купить сапоги готовые, тогда как до сих пор на всех нас шил один и тот же солдат-сапожник по заказу. Помню, что ехали на Липецк, Курск, Козельск, Рыльск и еще какие-то города, причем, наш ямщик всегда расспрашивал дорогу на остановках и выражал сомнение в правдивости говорившего. Добрались с грехом пополам до Нежина, остановились на какой-то большой улице против громадного, по тогдашнему моему глазомеру, здания, которое потом оказалось Безбородовским лицеем, впоследствии Коллегией Павла Галагана. На следующий же день моя мать отправилась к полковнику, заведывавшему школой (Де Симон), а от него к ротному командиру, который был уже уведомлен об ее приезде. И в скором времени прибыл к нам на квартиру Степан Данилович Цедровский, наш будущий фельдфебель, непосредственный начальник и фактически глава всего дела, кроме, конечно, школы (классов), где был особый офицер. Этот С.Д. Цедровский был семейный человек, жил довольно хорошо, да и как не жить хорошо, когда у него под началом было более сотни ребят, которые все содержались на казенный счет. В Киеве у него был даже свой дом на Подоле. Это был человек высокого роста, лет около 40, гладко выбритый, хорошо сложенный, сдержанный, говорил всегда ясно, определенно, не спеша. К нам он относился всегда довольно хорошо - может быть потому, что по временам получал в письмах от отца некоторую сумму, в чем я убедился из ответных его писем, которые мне попались уже после смерти отца. Одежда наша была форменная, т.е. черная суконная куртка со стоячим воротником, который резал мне в первое время шею, такие же, т.е. черные суконные штаны (шаровары), сапоги не высокие, а с короткими голенищами, черный галстук с языком посредине (“присяга”) и черная фуражка без козырька и сверх всего этого - шинель из серого сукна, солдатского покроя, т.е. вроде пальто с клапаном позади. Белье было, конечно, из толстого холста, также и вместо чулок - холщевые портянки, одевать которые надо было умеючи. Хотя вся эта одежда и “пригонялась” на нас, но так как она шилась не по мерке, а по вдохновению закройщика, поэтому никогда не была впору, а всегда или теснила где-нибудь, или была широка. На зиму давались еще наушники из черного сукна и черные же варежки суконные с одним пальцем. Пусть тот, кто будет когда-нибудь впоследствии читать эту мою рукопись, представит себе мою фигуру в то время, когда мне было 10 лет, одетую в такую форму и с маленьким, однако в 8 фунтов, ружьем на плече, и я предстану пред ним воочию. Вот в таком виде нас отвели на квартиру в другом конце города, в хату какого-то ткача, который принял нас довольно недружелюбно, потому что он должен был давать нам место в своей не особенно просторной хате, давать и обед и ужин, а обещанный нам паек еще не получил. Так как он был ткач, то он первым делом заставил нас помогать ему, т.е. наматывать нитки на шпульку в ткацком челноке, не показавши, как это делается, и был недоволен тем, что мы наматываем довольно медленно и неровно. Другое его занятие было - выделка (дубление) овчин, что производилось в отдельных страшно зловонных сараях. Сам он редко был трезвым, а всегда в подпитии, за что его постоянно бранила его жена Оксана. У ткача мы прожили недолго, а потом нас перевели в другую хату, к башмачнику, здесь было хуже тем, что мы спали на полу, на соломе, хата была меньше, и у хозяина была еще дочь, девочка лет 6-7. Работа производилась тут же, здесь сидел за работой и сам хозяин, и подмастерье и два ученика. Вырабатывали они свои изделия из материала уже скроенного и относили выделанный товар целыми корзинами в лавку на базаре. Работали, как теперь говорят в Москве, “на магазин”. Так как это все было летом, то, конечно, в школе учебных занятий не было, а мы должны были с раннего утра приходить на сборный (ротный) двор, где нас учили строю, маршировке и военным приемам. Особенно трудно мне давалась маршировка “тихим учебным шагом”. Эта маршировка состояла в том, что выполняющие ее (целый ряд или шеренга) должны были по команде ефрейтора поднимать левую ногу с вытянутым носком, медленно, постепенно, начиная с того момента, когда он говорил “ра-а-а-з”, но поднимать не более вершка от земли, стало быть, лишь двигать ногу вперед; а затем, когда он говорил “два-а-а”, поднимать ее вверх до высоты колена и держать ее в таком положении до тех пор, пока он тянул свое “два-а-а-а-а”, а затем, при быстро сказанном “три”, делать шаг, т.е. опускать лишь ногу на землю, а не трогать правую; стоять в таком положении было страшно неловко. Затем по команде же - проделывать то же с правой ногой, т.е. по команде она протягивалась вперед (“ра-а-а-з”), по команде же поднималась и опускалась. Я не скоро смог приучиться к этому полезному делу. У меня быстро уставали ноги, я раскачивался, чуть не падал, причем задевал и ружьем, и локтем левой руки стоявшего около меня, что считалось нарушением строя и вызывало насмешки товарищей, хотя и они делали все это не лучше меня. После получаса такой маршировки я решительно выбивался из сил и не мог сделать и шага обыкновенной ходьбы. Других за это колотили; били и по ногам, и по щекам, и по спине, но нас никогда никто не тронул, ввиду того, что мы были дворяне, как нас часто и называли, вероятно, благодаря Цедровскому. Потом, уже в конце августа или начале сентября нас повели в школу, в какой-то большой дом. Здесь я первый раз в жизни увидел школьные столы и скамейки, о которых до тех пор не имел представления. Так как я умел уже читать и притом довольно бойко (недаром же дома читал книгу под заглавием “Черный гроб или Кровавая звезда” и “Алексис или разбойничий стан под Москвой”), то экзаменовавший меня офицер принял меня довольно благосклонно и даже погладил по голове. Ученье состояло в писании палочек и нулей и в ожидании учителей, которые по большей части не приходили. Я сказал, что это было в конце августа или в сентябре, потому что оно было после 26 августа, дня коронации Александра II, когда в городе была иллюминация и мы ходили смотреть, как был освещен лицей. Потом нам сообщили, что нам предстоит поход в Киев, чтобы мы готовились к этому, но в чем состояло приготовление - неизвестно. В назначенный день нас по обыкновению собрали на сборном дворе, прибыло наше ближайшее начальство, т.е. Цедровский и ротный командир и полковник Де-Симон, последний что-то говорил, вероятно, напутственную речь, из которой я понял лишь то, что он запрещал во время остановок воровать, говоря, что за это будет наказывать. И вот мы отправились целой ротой по Киевской дороге; дали нам и рукавички, и наушники, но теплой одежды не было никакой. За нами ехали три кибитки на случай, если бы кто-нибудь из нас занемог и не в силах был бы идти. Но все шли свободно, с ружьем на плече, которое могли перекладывать то на левое плечо, то на правое, по желанию, после команды “вольно”. Так прошли верст с 10 и остановились в каком-то селе ночевать, где нас встретили дядьки, под названием “квартирьеры”, которые распределили нас по 2-3 человека в хату. Назавтра утром под барабанный бой должны были собраться на улице, и после переклички и вторичной проверки отправились дальше. Впереди всегда шел с нами ротный командир, маленького роста очень толстый человек, а позади наших кибиток ехала кибитка с его семьей. Шли всегда по большой дороге, два дня, а третий отдыхали, что называлось - “дневка”, совсем по военному порядку. Каково же было наше удивление назавтра после выхода из Нежина, когда утром, выходя из хат, мы увидели, что на дворе все бело от выпавшего за ночь снега. Настоящая зима. На какой счет мы питались, я не знаю, но, кажется, хозяева хат должны были кормить нас, а потом получали за это деньги от ротного командира. Я помню, что некоторые домохозяева приходили к нему, конечно, не все, и вели какие-то денежные разговоры. Неявившиеся считались, вероятно, отказавшимися, а деньги, следовавшие им, имели какое-то свойство не показываться на свет. Это было вознаграждение начальству. Так шли мы, кажется, 140 верст и накануне Рождества вошли в наше новое жилище в Киеве, уже совсем зимой; последний переход был особенно трудным, потому что на дороге было много снега, и была вьюга с сильным ветром и довольно холодным, что было особенно чувствительно при нашей одежде; однако никто не захворал, и даже не было отсталых. Войти в теплое помещение было особенно приятно, и я до сих пор помню о том удовольствии, которое мы тогда испытывали, настолько все прозябли, а как только отогрелись, нас повели в столовую ужинать, потому что пришли уже к вечеру. Ужин состоял из довольно обильной горячей гречневой каши с маслом, а потом хорошего хлебного кваса. С этого дня я полюбил этот квас, а до тех пор не пил его раньше, люблю и до сих пор. Ученье состояло во фронте, который в хорошую погоду производился на плацу, в ружейных приемах или темпах, которых было 12, в наигрывании без всякого инструмента рожковых сигналов, пении гимна (“Боже Царя храни”), заучи-вании имен и чинов начальства от самого низшего - до высшего, т.е. начальника всех военных училищ и военного министра. Потом - часа на 3 в школе. Здесь ученье состояло в чтении, т.е. упражнении в чтении самом механическом, без всякого понимания прочитанного; по крайней мере, я не помню, чтобы учитель спросил ученика о том, что он понял из прочитанного; в писании с прописи, т.е. чистописании, особенно часто раздавалась пропись, на которой было изречение: “Бога бойся, Царя чти” и “Уважай начальников”. А еще - “Истинный способ быть богатым состоит в уменьшении наших желаний”. Кроме того, преподавалась арифметика, т.е. производство сложения и вычитания на доске, без всяких задач, чисто механическое. Вот и все учение; для брата оно было немного посложнее, т.е. в классе, а в остальном было то же самое. Так дело шло около месяца, после чего мы захворали, сперва - брат, а потом и я. Чем я заболел - я не знаю. Помню только, что у меня был жар, я не вставал, не понимал ничего из того, что кругом меня происходило, а потом совсем потерял всякое сознание. Сколько времени я лежал без сознания, мне неизвестно, но я помню, что я был поражен той обстановкой, которая окружала меня: я лежал в Киевском военном госпитале. Пробыл я в госпитале довольно долго. Но сколько именно - не знаю, во всяком случае, не меньше месяца или двух. Тут навещал меня Ст. Дан. Цедровский и сказал мне, что наш отец, узнавши о нашей болезни, подавал прошение о том, чтобы взять нас из училища домой, что ему и разрешили; что за нами приедет весной мать. После выхода из госпиталя я оставался еще недели две в училище, в школу почему-то не ходил, а когда товарищи были в ней, я оставался в общих спальнях и слонялся из одного помещения в другое, без всякого дела и без всякой цели. Брат Алексей, заболевший раньше меня, тоже лежал в госпитале, вышел оттуда раньше меня и ходил в школу. И вот однажды во время такого безделья я был удивлен тем, что увидал мать, которая вошла одна и объявила, что она приехала за нами. Я не особенно обрадовался ей, но рад был тому, что все же будет нечто новое, и после встречи с нею сообщил об ее приезде Цедровскому и побежал в класс за братом. Его встреча была тоже без всяких восторгов. Цедров-ский сообщил ротному командиру о приезде матери, и нас всех отпустили. С тех пор прошло около 65 лет, но вся картина нашего ухода из училища еще жива в моей памяти. Дня через три после этого, походивши по Киевским соборам и пещерам, словом, побывавши во всех святых местах, мы поехали из Киева в Тамбов, тоже на одних и тех же лошадях, с тем же ямщиком, который привез мать и сестру; дорогой ничего не случилось, ничего стоящего упоминания, по крайней мере, ничего особенного не сохранилось в моей памяти. Ехали, как бывало и раньше, расспрашивая дорогу, стало быть, не всегда по большой дороге, через много сел и городов, опять, кажется, на Курск и Липецк, и приехали в тот дом, который, по мнению отца, подлежал уже сломке и для которого он задумал заготовлять строительный материал.
Гимназия
В то время в Тамбове была одна Губернская гимназия, и директор ее назывался и титуловался Директором училищ Тамбовской губернии. Придя в гимназию в 1-й класс вместе с братом, я был представлен им надзирателю, очень низенькому человечку, которого за его низкий рост звали “Шкаликом”, а он уже провел меня в класс, где я нашел уже 30 человек будущих свои сотоварищей. До тех пор в каждом классе можно было сидеть сколько угодно лет, поэтому не было ничего удивительного, что между товарищами были и такие, что брили уже растительность на лице; особенно заметно это было у Слетова (из мелких купцов) и Минервина, поступившего вместе со мною, но по окончании где-то курса в уездном училище. Из них Слетов так потом и вышел из 1-го класса, а Минервин дошел до 3-го и потом пропал. Конечно, у обоих из них создавались иные замыслы и иные привычки, еще не свойственные мальчишкам 11-12 лет, а потому мы с ними не имели ничего общего. Минервин приходил в класс нередко с красным лицом, Слетов приносил с собой такой толстый, раздувшийся портфель, что можно было думать, что в нем чуть ли не целая библиотека. Но это можно было только думать, в действительности же портфель раздувался от набитых в него пищевых продуктов: пирогов, блинов и т.п., которые Слетов съедал к концу уроков, обладая поистине изумительным аппетитом. Ближайшим товарищем моим на первой лавке, на которую указал мне надзиратель (Шкалик), как маленькому ростом, был Василий Орлов, с которым впоследствии кончили курс, нигде не оставаясь на второй год, и вместе поехали в Москву, в Университет и первые полгода прожили вместе в одной комнате. А из остальных 29 человек (всех было 31) все разбрелись, оставаясь в первых 4-х классах, или выходя совсем из гимназии. В первый же день был урок французского языка. Учитель был очень высокий бельгиец, толстый, с громовым голосом - Егор Егорович Гааг, который всегда так громко объяснял, а особенно вызывал отвечать, что если кто-нибудь из вызываемых не особенно хорошо приготовил урок, невольно пугался, бледнел и даже заикался. Гааг, кажется, и сам хорошо понимал влияние своего голоса, но все же привычку свою не оставлял. Преподавание свое он начал с того, что написал на доске довольно отчетливо, красивым почерком все французские буквы, прочитал их три раза, велел списать каждому в тетрадь, а потом написал и сложные звуки и велел запомнить их к следующему уроку, пригрозивши, что он “задушит того “чертенка”, который не будет знать этого”. На этот раз он не запугал меня потому, что, благодаря А.Я. Ришар, я уже знал все это и, хотя с грехом пополам и с суконным или деревянным произношением, но все же мог прочитать по-французски в любой книге. Когда выучились читать с грехом пополам, начали перевод маленьких статеек в каком-то руководстве для изучения французского языка, причем Гааг говорил значение каждого слова; слова эти мы должны были заучивать. О грамматике и спряжениях не было еще и речи. Когда мы перешли во 2-й класс, Гааг вышел в отставку, к великому восторгу директора, с которым не только не ладил, а даже часто ссорился и по своему обыкновению довольно громко. Этот директор был таков, что об нем стоит упомянуть. Звали его Григорий Иванович Бернгардт. Это был сухой, высокий человек, лет около 50, выбритый довольно чисто, причем лишь под ушами оставались узенькие бачки полосками, черный, говоривший тоже довольно громко, с явным произношением по-ярославски или владимирски на “о”. По образованию он был математик, и, когда процветала в гимназии порка, которую я уже не застал, он, говорили нам, был довольно щедрым на нее и назначал довольно большие порции. Хотя порка была отменена, но по-прежнему сохранились скамья для нее и в коридоре, при самом входе со двора, - кадка, в которой в соленой воде постоянно лежало несколько пучков длинных розог. Вероятно, это служило для того, чтобы гимназисты очень не зазнавались и помнили, что воздаяние им за проделки может быть дано без замедления. Этот Бернгардт был известен не только в городе, но и во всей губернии (как директор училищ всей губернии), как человек, берущий даже и малые приношения, до 1 фунта сальных свечей, включительно. Летом каждый год во время каникул он отправлялся на ревизию по губернии в сопровождении сторожа, отставного солдата Крылова, который должен был принимать более громоздкие приношения - вроде кульков с сахаром, чаем, бутылками и т. п. И, когда набиралось столько, что можно было нагрузить хороший воз, Крылов возвращался домой, а более портативные приношения оставались у директора. Ревизии проводились не сразу по всей губернии, а делились на две-три. Крылов тоже получал от смотрителей уездных училищ кое-что, но за что - никто сказать не мог. Какую ревизию мог произвести в это время директор - тоже никто не знал, так как ни одного ученика в это время в училище не было. Но зато оставался смотритель училища, всемогущий в нем человек, от которого зависело, кого выпустить с аттестатом, или свидетельством об окончании курса в училище. А это имело большое значение, так как окончание давало некоторые права - например, человек из податного состояния приобретал звание почетного гражданина, стало быть “несекомого”. Так вот, чтобы не все оставалось в кармане смотрителя, не очень обременяло его, являлся директор и облегчал тяжесть смотрительского положения. Все это нам и всему городу было известно, не скрывалось, и все находили, что это вполне законно. Рассказывал об этом и Крылов, похвалялся перед нами своими сборами. Этот же Крылов торговал в гимназии калачами, целые вязки которых висели у него в коридоре под его шинелью. Сам он покупал оптом по 1,5 коп., а продавал по 2, стало быть, выручал больше 30 %. Этот же Крылов раньше исполнял и обязанности секатора, т.е. палача, и был вполне подкупаем. Гр. Ив. Бернгардт при мне оставался недолго и был куда-то переведен, или совсем уволен, не знаю, а на его место был назначен другой, Н. Еф. Артюхов, о котором я буду говорить впоследствии. Инспектором гимназии был Ермолай Васильевич Крупков, очень деликатный человек, довольно вежливый, во всем полная противоположность Бернгардту, которому, однако, не во всех его действиях составлял полный противовес директор. Впослед-ствии, уже после моего выхода, через несколько лет, Крупков был назначен в Тамбов директором гимназии откуда-то из другой губернии. Особенно памятен мне из учителей священник-законо-учитель Яков Петрович Бондарский, прослуживший в гимназии многие годы. Некоторые из тамбовцев уверяли, что он будто бы служил в гимназии со дня ее основания, но верно ли это - пусть остается на совести говоривших. А что он служил долго, это видно из того, что один из моих пациентов, когда я служил в Павловской больнице, уже отставной военный врач, прослу-живший 45 лет в военной службе, доктор Ив. Трофим. Тунгусов, рассказывал мне, что он в свое время учился в нашей же гимназии, вышел из нее в сороковых годах и помнит Бондарского глубоким старцем. Он на уроках не делал никаких объяснений, требовал, чтобы урок отвечали наизусть из слово в слово, особенно катехизис, причем он давал вопрос по книге Филарета, а ученик должен был давать ответ - и, если в ответе не было ни одной запинки, ставилась отметка “5”, если же было много запинок, что указывало незнание урока, ставилась “двойка”, и Бондарский говорил: “Отыде, окаянный, от меня”, а на следующий день спрашивал и новый урок и старый. Он был глуховат и косноязычен от рождения, объяснений не терпел, а когда его вызывали на это, отвечал, обыкновенно одно и то же: “Изучай Писание священное - и все откроется тебе, не злоумствуй, паче же не лжеухищряйся”. Мздоимец он был великий, больше директора, но это объяснялось тем, что был приходской священник, казенной квартиры не имел и по службе учителя гимназии получал очень маленькое жалованье. Тогда еще не было поурочной платы учителям, а они делились на старших и младших, и отличие состояло в количестве получаемого жалованья. Старшие учителя получали не более 50-60 руб. в месяц, а младшие - 40 с чем-то. Одновременно с уничтожением крепостного права, в 1861 году пошли в нашей гимназии нововведения, в классе, по особому ходатайству директора, был допущен к преподаванию учитель из уездного училища Ник. Адамович Адамов. Этот был полная противоположность Домницкому; он почти никогда не спрашивал, не задавал уроков, а читал лекции по образцу профессоров, придерживаясь обширного и входившего в известность руководства Павловского. Особенно много читал он нам по географии Африки и Австралии и увлекал своими рассказами. Для нас это была приятная новость, особенно после Домницкого, который и задавал-то уроки по учебнику Ободовского или Кузнецова (“География России”), т.е. брал у кого-нибудь книгу, зачеркивал в ней то, что считал ненужным, а потом ставил крест, что означало: к следующему разу - до сих пор. Все это делалось молча. Был еще учитель естественной истории Иван Григорьевич Македонский; черт его знает, что это был за человек. Он часто исполнял обязанности инспектора, и об этом мы узнавали по тому, что в такие дни он в большую перемену ходил обыкновенно по коридору, накинувши на себя пальто (а коридор выходил прямо во двор), часто останавливался перед открытыми в коридор дверями и грозно покрикивал “тише”. Знал ли он сам свой предмет, никто решить не мог. Преподавание его состояло в том, что он, придя в класс, садился за кафедру, т.е. учительский стол, и расписывался в книге; брал у кого-нибудь из сидевших на передней лавке учебник и начинал громко читать то, что следовало к следующему уроку, отмечая карандашом до того места, которое означало конец урока; отдавал книгу обратно, вызывал к ответу учеников. Ответы давались на месте, но, конечно, стоя. Никаких объяснений, ни одного слова мы от него не слыхали. Во время ответов учеников, он впадал в какое-то летаргическое состояние, и ему можно было говорить что угодно, лишь бы не останавливаться, а если остановился с ответом, это его вызывало из летаргии, которая, если продолжалась долго, давала ему возможность заключить, что ответ хороший, и он ставил “5”. В противном случае - “2”. Были у него в каждом классе свои любимцы, которые ничего не делая, получали всегда хорошие отметки, и бывали такие, которые как хорошо ни отвечали, не могли получить больше “тройки”. Кроме остановки ответа, выводило его из каталептического или летаргического состояния еще и то, что в классе раздавался дружный хохот всех учеников от рассказов отвечающего. Тогда он с изумленными глазами, видимо не слыхавши ни одного слова из всего говорившегося отвечающим, вскакивал, смотрел по сторонам, спрашивая: “Что? Что Вы сказали?”, и не получивши ответа, ставил “3”, и уже потом этот троечник не мог добиться никакой высшей отметки. Так велось у него дело в обычное время, но если он узнавал, что приехало какое-нибудь начальство или лицо, хотя и не начальственное, а командированное из округа, он преображался: приносил откуда-то прекрасные книги с рисунками животных и растений, а весной и массу живых растений; все это складывалось на кафедре в ожидании начальства, а если оно не заходило в класс, после звонка уносилось куда-то, и по присутствию растений и книг на кафедре мы узнавали, что кто-то приехал из Харькова. Иногда приносил он и чучела мелких зверьков и птиц. Вообще этот человек умел угодить начальству и выставиться перед ним в хорошем свете, а до познаний учеников ему дела не было. Полную противоположность ему, как преподавателю, представлял учитель словесности Лев Елисеевич Кованько - добрейший и деликатнейший человек, никогда никому не говоривший “ты”, а всегда “вы”. Про него говорили, что он и дома говорит своему лакею, великому неряхе: “Господин Филатка, почистите сапожки”. Он сам увлекался поэзией Пушкина, Жуковского, Лермонтова и передавал нам это увлечение, а при чтении “Слова о полку Игореве” у него дрожал голос и даже виднелись слезы, когда он произносил: “вещие струны рокотаху”. Как малоросс по происхождению, он высоко ставил своего соотчича Н.В. Гоголя, особенно за его описания Украины, описание Днепра, степей. И в то время, или незадолго до него, появились “Записки охотника” Тургенева, и Кованько, читая их нам, предсказывал великую славу Ивану Сергеевичу, как величайшему поэту России и знатоку русского языка, очищен-ного от всякого постороннего наплыва, и советовал нам поучать-ся у Тургенева. По инициативе его же, когда мы были в 7-м классе, на святках, в помещении гимназии был устроен нами спектакль, давался “Ревизор”, а на следующий день - “Женитьба”. Театр был полный, места платные, и нам осталось барыша около 300 рублей, которые пошли частично на библиотеку, частью - на пособие ученикам с недостаточными средствами, желающим продолжать образование. На мою долю из этой суммы пришлось рублей 15. Роль городничего исполнял А.Н. Ховрин, впоследствии заведывавший Психиатрическим отделением в губернской больнице, а в то время бывший вместе со мною в 7-м классе. На следующий день он был Подколесиным. Все, вообще, говорили, что игра его изумительна, особенно если взять во внимание то, что мы никогда не бывали в театре и не видывали игры актеров. Но тут вновь сказалось влияние Л.Е. Кованько, который бывал на каждой репетиции и давал свои советы. Места в театре были все заняты, было даже и высшее начальство, т.е. губернатор и полицмейстер. Все женские роли тоже довольно удачно исполнялись гимназистами же, но меньших классов. Я выполнял роль трактирного слуги (в “Ревизоре”) и чтобы быть вполне натуральным, по совету того же Кованько, был три раза в трактире, чтобы присмотреться к движениям, походке и вообще манерам половых, и мне это посещение трактира до такой степени понравилось, что и потом уже без всякой цели наблюдательности, я нередко посещал трактиры. Я даже полюбил их, люблю и теперь, особенно хорошие. Не могу не упомянуть и еще одного учителя, который занимался с нами, когда мы были еще в 3-м классе - это К.И. Удовиченко, учитель истории. Он никогда не садился в классе, а постоянно ходил вдоль переднего стола и, если находил на нем какой-нибудь обрывок бумаги, непременно брал его, свертывал в тончайшую трубочку, а сам все говорил и говорил. Конечно, сидевшие на передней лавке, заметивши у него такую привычку, подкладывали ему бумажки, а он, не замечая умысла, охотно брал их и вертел. В 3-м классе он говорил нам о разных истори-ческих выдающихся людях, не обращая внимания на то, к какому времени они относились. Все сказанное им, только в более сжатой форме он потом давал нам изложенным на бумаге, а от нас требовал, чтобы мы это переписали и выучили. Нельзя не упомянуть еще об учителе рисования Семене Шубине. Это был старик уже, среднего роста, довольно тучный, которому всегда было жарко. Он, войдя в класс в зимнее время, всегда говорил одно и то же: “Уф! Жара какая! Опять натопили печи дубовыми дровами! Ну-ка, старшой! Открой трубу у печки, сними вьюшки, а то мы раньше своего времени все перемрем, и некому будет рисовать”. Старшой лез исполнять приказание, и только после того Шубин раздавал печатные рисунки, с которых мы должны были рисовать, а потом на классной доске рисовал прямую линию, кривую, ломаную, звезду, глаз и, наконец, человеческую голову, причем всегда говорил: “Ну-ка, ребятки, рисуйте то, что на доске”. Иногда он подходил к рисующим с карты и, если находил что-нибудь неправильно сделанным, всегда указывал на это, не стесняясь в выражениях, какие бы они ни были. Однажды, например, он стал рассматривать работу ученика, писавшего Купидона, и спрашивал его: “Это что же ты написал?” - “Купидона, Семен Львович”. - Купидона? А где у него голова?” - “А вот у него голова” - “Эта? Только что же это, брат, такое? По-твоему, это голова, по-моему, больше похоже на ж..у! Может быть, она и на самом деле у него такая - голова-то: ведь никто живого Купидона не видал, ни ты, ни я!” На дворе его дома был огорожен высокой изгородью круг: лавками-местами по верху - для публики, а центр круга была площадка, на которой происходили петушьи бои, гусиные, а иногда и собачья травля. Всегда перед боем заготовлялась бочка с водой и небольшой пожарный насос, который приводился в действие, когда дравшиеся чересчур свирепели. А Семен Львович обыкно-венно говаривал: “Ах, люблю смотреть, как собачки дерутся, схватят это, миленькие, друг дружку за губу, или еще за что, так и рвут, так и рвут! А как плеснешь на них водой, так сейчас же разбегутся и хвостами задницу закроют, чтобы там не подмочило”. Он был уверен, что собаки поджимают хвосты именно с этой целью. Теперь пора сказать несколько слов о директоре гимназии Николае Ефимовиче Артюхове. Он приехал к нам не сразу после Бернгардта, а спустя около года после его отъезда, когда я был уже в 3-м классе. Но описать Артюхова как директора и человека я вряд ли сумею, для этого нужно иметь особую писательскую способность, в чем, вероятно, убедился и каждый, прочитавший эти воспоминания. Да и имеющему такую способность - нужно иметь еще и вдохновение. По всему этому я отлагаю свой рассказ о нем до другого раза, я здесь скажу лишь, что это был человек времени сороковых годов, вполне идеалист, добрейший из всех, кого я когда-либо знал в своей жизни, отзывчивый на все доброе, готовый помочь во всякой беде. С виду он немного напоминал Н.И. Пирогова, с которым был хорошо знаком, и будто бы ездил к нему в Киев, где Пирогов в это время был попечителем Учебного округа. Верно ли это, или неверно - не знаю, но знаю то, что это был истинный педагог в духе Пирогова, как он писал о школах в Морском Сборнике того времени. С виду Артюхов казался очень суровым, ледяным, но под этой ледяной оболочкой билось самое теплое сердце, покоилась душа, стремившаяся ко всему доброму, чистому, идеальному. Все мы скоро постигли его, быстро полюбили и не боялись, а уважали. При нем я пробыл в гимназии пять лет, окончил ее, с тех пор не видал его ни раза и крайне удручен был, когда узнал о том, что его сменили, не за его вину, а за вину другого. Эта вина другого состояла в том, что ученик 6-го класса Горский, экзальтиро-ванный поляк, сын или лесничего, или ветеринара, в один день летом убил шесть человек в том семействе, в котором он был репетитором мальчика. В момент репетиторства, когда мальчик писал, наклонившись над столом, он ударил его по голове гимнастической гирей и убил наповал. Убедившись в этом, он пошел в другую комнату, встретился там с матерью только что убитого и ударил ее по голове, тоже убил с одного взмаха, затем убил двух маленьких братьев первого, кухарку в кухне и, наконец, кучера в каретном сарае, в тот момент, когда кучер наклонился для чего-то перед ним. Разделавшись таким образом со всеми, он нашел возможным спокойно пойти домой и сесть за чай. Начатое следствие скоро нашло виновника, он был судим в новом уже Суде (Окружном), обвинен и приговорен к ссылке в каторжные работы, но не дошел до места назначения, а был заколот конвойным за то, что, отнявши ружье у другого конвойного, хотел застрелить или заколоть его. Это совершилось на глазах у всей партии арестантов, в которой он шел. Так вот за то, что между гимназистами оказался убийца шестерых человек, пришлось ответить и директору. Его из директоров училищ всей губернии перевели директором какого-то Женского института, или чего-то подобного, но, во всяком случае, значительно понизили. Так вообще было в порядке в то время, не церемониться с выдающимися людьми; придираясь ко всякому случаю, их топтали в грязь, унижали, оставляли в тени. Такова была в то время политика Министерства Народного Просвещения, а министром был Головин и сподручный у него - известный Делянов, впоследствии тоже ставший министром и графом. В то время была усиленная пропаганда за классические гимназии и классическое образование; за них гремели такие имена, как Каткова и Леонтьева в Москве и Шестакова (попечителя Учебного округа) в Казани. А сколько было еще мелких подбрехов, вроде Любимова (профессора физики в Московском университете). Катков, издатель “Московских Ведомостей”, был страшно громадной силой - его читали всюду, читал Александр II, а, стало быть, и все министры и губернаторы; выписка его газеты была обязательна для всякого присутственного места, в ней помещались все казенные объявления, что давало ему громадный доход. Он-то с Шестаковым больше всех и пропагандировал классицизм в русских гимназиях. Года через 3-4 после моего поступления в Университет, он устроил на Б. Дмитровке классический лицей, в котором директором был Леонтьев - профессор греческой литературы; в лицее все было направлено на изучение древних языков, а об естествознании не было, конечно, и помина. Кажется Дм. Минаев написал одно стихотворение, гимн Каткову (в подражание Пиндару). Я помню его до сих пор. Вот оно:
Кто всей Европой управляет, Царей, министров наставляет, Кто русских спас от поляков? Михаил Никифорович Катков!
Кто победил сепаратистов? Кто в грязь втоптал всех нигилистов, Неверных родины сынов? Михаил Никифорович Катков!
Кто усмотрел в Естествознании Неверья дух и отрицанья И от него кто спас нас, дураков? Михаил Никифорович Катков!
Кто указал нам для спасенья Латинских классиков творенья И кто их поднял из гробов? Михаил Никифорович Катков!
Кто учредил Лицей, в котором, Классическим питая вздором, Готовят родине сынов? Михаил Никифорович Катков!
Но нам всех дел не перечесть, Каткову делающих честь! Так воскликнем же без лишних слов: Ура! Катков! Этот-то Катков делал какие-то намеки и на то, что коварная польская интрига стала проникать и в средние учебные заведения, что прежние директора не видят ее, стало быть, они не на своих местах, и потому их следовало бы заменить более дальнозоркими. Ну, конечно, и заменяли. Чтобы легче было разделываться с директорами, по службе их назначали тогда не директорами, а исправляющими должность директора. Сместить такого в случае нужды ничего не стоило, а сместить настоящего директора было труднее - нужно было докладывать, что такой-то оказался недостойным занимаемого им места и подлежит удалению. Но обо всем этом я поговорю впоследствии, когда будет досуг и время, и силы, а теперь перейду к тому, что ближе меня касалось, потому что, если я буду писать только о том, что видел и слышал, но к чему не имел прикосновения - так и то не скоро смогу написать все. А времени остается очень мало, старость со своими недугами не ползет, а быстро шагает вперед, и я уже предвижу, что она скоро меня остановит совсем. Да и пора! Ведь мне кончается 75-й год. Итак, я поступил в гимназию в 1-й класс. О том, каковы были там учителя, директор, инспектор и пр., я уже говорил. Учиться мне в этом классе было легко, потому что всю программу его я знал раньше, кроме немецкого и французского языков. Во 2-м классе дело шло немного хуже, но все же перешел без экзамена: тогда было издано правило, чтобы освобождать от экзаменов тех, у которых в среднем выводе - по всем предметам “3” или больше, а экзаменовать только из того, по которому годовая “двойка”. В 3-м классе дело пошло совсем плохо, настолько плохо, что не будь директором Артюхов, я не перешел бы в 4-й класс, а был бы оставлен, что при моих домашних условиях было равносильно выходу из гимназии, и я затерялся бы в какой-нибудь палате или канцелярии. Дело здесь состояло в том, что я засел с первого же дня в самом конце класса на задней скамейке в так называемой “Камчатке”: классная комната была узкая и длинная настолько, что когда учитель негромко говорил, будучи в одном конце ее, - в другом его не слышали; классная доска была поставлена так, что из “Камчатки” ничего не было видно, что на ней писалось. И вот, засевши тут между двумя сотоварищами старшими меня, оставшимися на второй год, мы не столько слушали объяснения, сколько занимались игрой в карты; тут меня обучили играть в преферанс; мои сотоварищи говорили, что они уже знают, что болтает учитель, - “А ты лучше посмотри, какая игра пришла к тебе”. Я соблазнялся, смотрел, а тем временем не слыхал ничего из того, что говорил учитель, а когда он, учитель, приказывал повторить, то, конечно, я стоял столбом, молча; соседи ни справа, ни слева подсказать не могли, потому что сами не слыхали, хотя и уверяли меня, что они все это хорошо знают, а учителя к ним за что-то придираются. Результат получился для меня печальный, у меня в среднем выводе по французскому, немецкому и латинскому языкам была годовая “единица”, а по математике - “2”. С такими отметками не допускают до экзаменов. Когда я узнал об этом от директора, то был поражен, как будто бы раньше не мог предвидеть всего этого. Но так как раньше-то я мог учиться хорошо и даже отлично, были способности, то он пожелал расследовать причину моих “единиц” и узнал о нашей карточной игре и тут же из нашего угла убедился в том, что от нас невозможно рассмотреть ничего, что пишется или чертится на доске. Сотоварищи-игроки получали такие же отметки, как и я, но как оставшиеся на третий год, вышли из гимназии и поступили в юнкера. Они-то и рассказали директору про игру и всю вину намерены были свалить на меня, что будто бы я не давал им возможность слушать и обучал их играть. Но директор не поверил их объяснениям, призвал меня к себе на квартиру, отечески, очень ласково расспрашивал о моих занятиях и дома, и в школе, пожурил меня без всякой строгости и сказал, что если я даю ему слово, что выдержу экзамены все, то он берет на себя ответственность перед Советом и допускает меня к экзаменам. Я, конечно, охотно дал. Когда я экзаменовался, директор был тут же, и нужно было видеть, как просветлялось его лицо, какая милая улыбка была на нем, когда я давал хорошие ответы на все вопросы учителя, а учителя из языков, по которым у меня были “колы”, экзаменовали меня подробнее, чем других, дабы убедиться, что мне не случайно попадали “счастливые” вопросы. Кончилось тем, что я сдержал свое слово, выдержал экзамены все, получивши по языкам “4”, что с “единицей” составляет 5, а при разделении пополам - 2,5, т.е. “3” -балл переводной. Это убедило весь педагогический Совет в том, что у меня способности есть, а вместе с тем есть и условия, мешающие учиться хорошо. Это мнение так и осталось за мною. Во время пребывания моего в 3-м классе, к нам поступили новые сотоварищи, ученики упраздняемого “Училища для детей канцелярских служителей”, которое было закрытое - интернат. В нем было около 100 человек, если не больше. Помещалось оно на той же Большой улице в своем доме, там же ученики и жили и учились. На улице их никогда не встречали. Одевали их в черные куртки, конечно, с белыми металлическими пуговицами. Между ними были и великовозрастные парни лет 18-20, а все же в курточках. Чему и как их учили - неизвестно; знаю только, что все они делались потом мелкими чиновниками в разных присутственных местах, почему некоторые и называли это училище рассадником “крапивного семени”. С уничтожением крепостного права и в связи с ожидавшейся судебной реформой это училище было упразднено, и питомцы его распределены или в гимназию, или в уездное училище; в гимназию поступили наилучшие из них; к нам в 3-й класс поступили трое: Покров-ский, в тот же год умерший от тифа, Полубояринов - ростом гренадер, брившийся начисто, скоро вышедший из гимназии неизвестно куда, и Ал. Ник. Ховрин, довольно способный молодой человек грузного сложения, окончивший гимназию вместе с нами, а потом и Харьковский университет по медицинскому факультету. Он до самой смерти своей заведывал Психиатри-ческим отделением Губернской больницы. Это тот самый Ховрин, который потом устраивал спектакль в гимназии и игравший роли и городничего Сквозника, и Подколесина (Ревизор и Женитьба). Во 2-й класс поступил оттуда П. Вышеславцев, тоже очень способный юноша, до самого окончания курса не сходивший с Красной доски, окончивший с золотой медалью и впоследствии бывший в Москве известным присяжным поверенным самой безупречной честности. Кто поступил в 1-й класс - не помню. Вообще же могу сказать одно, что подбор учеников из этого училища в гимназию был сделан очень удачный; каковы попались в Уездное училище, тогда 3-х классное - неизвестно мне. Из упоминания об училищах для детей канцелярских служителей, дворянских пансионеров и нас, своекоштных, видно, что состав учеников в гимназии был довольно пестрый. Но к нему нужно было прибавить еще и так называемых “казенных”. Эти тоже ходили в гимназию и в уездное училище. Что это было за учреждение - “казенные”, мне не было известно и до сих пор. Из учеников этого училища хорошо помню Альберта Вейера, окончившего вместе с братом моим, и Вас. Пав. Звонарева, окончившего гимназию и университет вместе со мною. Он потом долго был вольнопрактикующим врачом в Тамбове; у него был даже свой дом близ реки. Он был старше меня года на два-три. Тогдашнее духовенство еще довольно долго держалось своей касты (но не корпорации), отдавало сыновей учиться только в Духовную семинарию, и в гимназии не было ни одного ученика из духовного звания, хотя Артюхов и манил их туда, как здоровый элемент. “Казенные” жили где-то на берегу реки Студенца, тоже в особом училищном доме, одевались не как пансионеры или из Училища канцелярских служителей (в курточки), а в мундиры гимназического покроя и шли в школу всегда в сопровождении старого дядьки. Они были гораздо скромнее и дельнее, чем дворянские пансионеры. Приходили мы в гимназию обыкновенно к 9-ти часам утра, но какая бы ни была погода или мороз, двери гимназические не растворялись раньше как без 5 минут в 9 часов и, стало быть, рано пришедшие должны были оставаться на дворе или на улице. Всего в день было четыре урока по часу с четвертью каждый, т.е. от 9-ти до 10.15, от 10.15 до 11.30, от 11.30 до 12 большая перемена, отдых на дворе, от 12 до 1.15 и от 1.15 до 2.30. Окончание уроков означалось, как и до сих пор, звонком. Директор Артюхов отменил прежнее право не допускать в класс раньше 9-ти часов, как меру бессмысленную и не гигиеническую, могущую вредно отзываться на здоровье. Кстати, о здоровье учеников. Я помню хорошо за все время моего гимназичества, что у нас было только 3 случая смерти: один маленький умер от какого-то острого процесса, другой, Покровский - в 3-м классе, о чем я уже говорил, и третий, Порфирий Никитин - в шестом классе,- от наследственного туберкулеза легких. Каких-нибудь заразных болезней у учеников, вроде дифтерита, оспы, скарлатины и т.п. мы не слыхали, и вообще ученики отличались хорошим здоровьем, хотя жили в условиях неудобных и питались плоховато, по взглядам теперешних врачей и педагогов. Тогда еще не было и помина о том, что такое горячие завтраки. Ко времени большой перемены, пансионерам приносили нарезанный черный хлеб небольшими кусочками, около ? фунта, другие покупали у сторожа Крылова, иные выбегали на улицу и покупали там калач у постоянно торговавшего хлебом старика, а мы, как не имевшие денег, приносили с собой из дома кусок хлеба черного такой величины, какой мог поместиться в заднем кармане мундира. А некоторые не ели ничего за все время лекций. И, несмотря на все это, не хворали и были вообще хорошего здоровья, конечно, кроме некоторых исключительных случаев. Правда, что зимою иногда заболевали сразу по нескольку человек в классе, но это исходило от случайной причины, от оставленной в печи головешки, или когда со злоумышленной целью в отдушник горячей печи запихивался сальный огарок; от пригорелого сала распространялся такой чад, от которого некоторых даже рвало. Виновный, конечно, молчал. Летом заболевания бывали, но всегда от одной и той же причины: объедение ягодами, яблоками и особенно дынями в августе месяце. Да и как было не соблазниться дынями, когда их продавали на базарах по 1 коп. за пару, - выбирай любые, какие понравятся. А они все такие желтые, золотистые, пахучие! А яблоки одно другого красивее, вкуснее! А вишни, особенно черные, крупные, тающие и брызжущие соком во рту, настолько изобильны в каждом саду, что в урожайные годы их продавали по 5 коп. за ведро и лишь в неурожайные годы цена на них поднималась до двугривенного. Теперь, конечно, найдутся такие люди, которые при чтении этих строк будут смеяться, что двугривенный был цена вишен за ведро, но нужно помнить, что в те времена двугривенный был не пустяк, когда чиновник Губернского правления получал жалованья по 3 рубля в месяц, когда в гимназию платилось за право ученья по 5 рублей в год. А когда потом для увеличения гимназических средств объявлена была годовая плата в 10 рублей, то многие говорили: “Вот ведь какое несчастье стряслось на нас! Хоть бери сына из гимназии, чем за него платить?” Поэтому неудивительно, что при необычайной дешевизне садовых и огородных произведений, а иных и собственных, мы набрасы-вались на них и ели до одурения, до забвения всяких чувств, до рвоты и поносов, когда желудки наши спасали сами себя тем, что выбрасывали из себя все введенное в них в избытке. Иных болезней у нас не бывало, а эти повторялись из года в год каждое лето. Как подспорье к домашнему бюджету, некоторые из нас давали уроки малоуспевающим ученикам из состоятельных семейств, но и эти цены, по теперешнему времени, покажутся мизерными, а тогда они имели значение. Я, например, учил двух девочек, лет 9-10, бывая у них каждодневно по 1,5 - 2 часа, за два рубля в месяц, а потом, когда был уже в 6-м классе, репетировал одного купеческого мальчика за 10 рублей. Знакомые, конечно, удивлялись этому, находили, что у купца, вероятно, очень много лишних денег, что он платит “за кондицию” 10 рублей в месяц. А иногда я в летнее время, каникулярное, подготовляя какого-нибудь мальчугана к экзамену, получал и больше, потому что такие подготовки бывали в двух-трех домах.
Уроки в семье Сатиных
Летом 1864 года, когда мы жили на Варваровской площади в отдельном флигеле, куда переехали из д. француза Петена, мне сделано было предложение через директора гимназии поехать в деревню Подоскляй в семейство Сатина, чтобы подготовить его дочь Людмилу для поступления в 3-ий класс женской гимназии. До тех пор в Тамбове не было женской гимназии; открываемая была новинкой для города, и жители еще не составили себе определенного взгляда на то, что это за школа - известно было лишь то, что это открытое заведение для девочек всех сословий, но чему там будут учить и как учить, никто еще не знал, и, поэтому, смотрели с недоверием как на новшество. Знали только, что на первый год будет открыто три класса, а потом ежегодно будет прибавляться еще по одному до тех пор, пока составится 8 классов, и это будет уже полная гимназия; что плата за ученье там будет больше, чем в мужской гимназии - это тоже заставляло задуматься, что бы это значило. Но этот вопрос, кажется, так и остался нерешенным, открытым. И вот однажды приходит ко мне наш гимназический сторож (увы, уже не Крылов, куда-то исчезнувший) и говорит, что директор требует меня к себе сейчас же. Это было в послеобеденное время. Конечно, я тотчас же отправился. Оказалось, что он предложил мне поехать в деревню, чтобы заработать себе кое-что на уроке, и тут же представил меня сидевшей у него даме. Это была Варвара Павловна Сатина, мать будущей моей ученицы. Директор сказал мне, что он сам еще не видал ее дочь, не знает, насколько она подготовлена, а, судя по тому, что она училась дома, под руководством отца и теперь ей уже 12 лет, думает, что с нею надо заняться систематически и подготовить ее к поступлению в 3-ий класс - почти то же, что в 3-ий класс мужской гимназии. Я сказал на это, что желательно было бы иметь программу. “Никакой программы тут не надо; нужно, чтобы девочка писала по возможности грамотно, умела прочитанное изложить своими словами, знала священную историю Ветхого и, в общих чертах, Нового Завета, побольше бы знала молитв, могла бы читать по-французски и по-немецки - сколько-нибудь слов того и другого языка - и это все. Можете ли взяться за это?”. Отвечаю: “могу”. - “Ну и дело с концом, говорит директор. - Стало быть, завтра же утром Вы явитесь к господам Сатиным на квартиру и поедете вместе с ней в деревню”. Когда я возвратился домой и рассказал, в чем дело, по которому звали меня, поднялась целая история: “Зачем, она, подлая (т.е. Варвара Павловна), не обратилась прямо к матери, а действовала через директора? Она, наверное, даст тебе - т.е. мне - какое-нибудь грошовое жалованье, может быть, рубля два или три в месяц, ведь жить-то ты будешь у нее - стало быть, она и обед и чай - все зачтет тебе в жалованье”. Как я ни старался говорить, что директор тут является как бы посредником, стало быть, если бы она дала мне ничтожную плату, я могу сказать об этом ему, и он заставит ее дать плату настоящую; может быть, он уже и теперь знает, какова будет эта плата, и не потому ли об ней не было и речи - все разговоры по этому поводу не привели ни к какому результату. Каждый из нас остался при своем, и наутро часов в 8 я ушел из дома с небольшим узелком, в котором лежало две ситцевых рубашки, два бумажных пестрых носовых платка и еще не помню что, а на мне был обыкновенный гимназический сюртук, или мундир, как его звали, гимназическое пальто, и фуражка-кепочка. Но все мое имущество было настолько старо и ветхо, что дальше идти было уже некуда - рубашки, например, лилового ситца, были настолько рваны, что потом, когда их нужно было отдать в стирку там, в деревне, они причинили мне много горя; они были разорваны по задней стороне через воротники на две половины, в виде распашонки, какие надевают новорожденным детям. Я стыдился отдать их в стирку, но все же отдал. В подобном же виде было и все остальное имущество, с которым меня отпустили в качестве наставника в чужой помещичий дом. Конечно, не было обращено внимания на то, что там увидят мое нищенское одеяние и обвинят не меня лично, а мать, которая с таким багажом отпустила сына из дома. Утром я был в назначенном часу уже у Сатиной, и в скором времени мы выехали на тройке, запряженной в хороший тарантас, из города. Дорога почти вся шла по старому хвойному лесу, по заречной стороне. Такой лес для меня был новостью - я еще не видал ничего подобного - это был настоящий бор. Дорога недальняя, всего двадцать верст до дома в селе Подоскляй, того самого Подоскляя, из которого родом был мой будущий сослуживец по Павловской больнице - доктор Павел Григорь-евич Розанов. Семья Сатина была небольшая: он сам, Иван Матвеевич, его жена Варвара Павловна, два сына - мальчики 1-го и 2-го классов и две дочери, из которых одна - моя будущая ученица, и другая - старшая уже замужем, за немцем Рудольфом Давыдовичем Грюнблат, который раньше состоял у них же управляющим. Дом был деревянный, большой, в два этажа; стоял на ручье с быстро бегущей водой, в которой было много мелкой рыбешки, огольцов. Очень близко от дома стоял и угрюмый сосновый лес - продолжение того, по которому ехали из города, а на рукаве реки Цны стояла большая мельница - чуть ли не главная после леса ценность имения, которая давала хороший доход. Сам Ив. Матв. Сатин - уже немолодой человек, лет 50-ти, бывший офицер, хотя и не особенно далекий, но добродушный и замечательно честный. Жена его, Варв. Павл. - бывшая его же крепостная девица, на которой он женился, увлекшись ее красотой. Теперь она была уже далеко не красавица. Он женился на ней, дал ей образование, для чего у них в доме жила или учительница, или гувернантка. Теперь уже не сохранилось в ней и следов бывшей крестьянской девушки. Когда моя ученица была принята в 3-ий класс гимназии, вся семья переехала в город, и они сняли под квартиру целый дом на Долгой улице (Бунина), где и поместились до весны. Я часто бывал у них и здесь, так как репетировал мальчиков-гимназистов. Семья эта жила тихой мирной жизнью; у них редко кто бывал в гостях, да и они сами редко выходили из дома, но зато не пропускали, кажется, ни одного спектакля. Я не знаю, что стало с этой семьей; до меня доходили лишь слухи, что моя ученица по окончании курса в гимназии вышла замуж за какого-то генерала, уехавшего с ней не то на Восток, не то на Кавказ. Рудольф Давыдович Грюнблат переехал впоследствии на жительство с семьей поближе к своим сородичам - немцам в Саратовскую губернию, а кто владеет теперь Подоскляем - не знаю.
Так мы жили, росли, питались и учились в гимназии вплоть до 7-го класса, когда с нами стали обращаться, как с будущими студентами, когда нам уже читались лекции, почти не задавали уроков, и занятия становились все интереснее и занимательнее. Одни уроки Артюхова из космографии чего стоили! Их можно было заслушаться! Жаль, что у меня не сохранились его записки по этому предмету; он писал их сам, а потом отдавал нам, после каждого урока листа по 2-3. В 7-м классе читались лекции и по физической географии новым учителем, студентом Маргасовым, исключенным из университета за беспорядки после московской “битвы под Дрезденом”. Но вот всколыхнулось и наше болотце, и нас захватило новым ветром: гимназия в прежнем ее виде оставалась последний год, а дальше она становилась чисто классической, с латинским языком с 1-го класса, и прибавлялся еще 8-й класс, вводился греческий язык и к нашим выпускным экзаменам назначен был в качестве ревизора или наблюдателя, как это делалось и раньше в последние годы, известный филолог Харьковского универси-тета, один из двух братьев - Лавровский Петр, профессор славянских наречий. Об нем и раньше ходили слухи, как о человеке весьма строгом, придирчивом и требовательном. Наши учителя языков, истории, словесности были поло-жительно придавлены, когда получилось из Харькова официаль-ное известие о назначении его к нам на экзамены и письмо на имя директора, в котором он просит, чтобы выпускные экзамены по Закону Божьему, географии, физике, математике и естествен-ной истории произвести без него, а остальные отложить до его приезда. И вот началось у нас приготовление к экзаменам. Конечно, брошены были всякие уроки, кондиции, и все дружно засели за зубрежку, лишь по временам собираясь у кого-нибудь из учителей, чтобы вместе с ними поговорить, как нужно будет отвечать, какого рода вопросы он будет предлагать помимо учебников. На этом некоторые хотели выехать и действительно выехали, т.е. провели Лавровского. Например, узнали, что Лавровский на экзаменах требовал, чтобы ученики писали по-французски и по-немецки под диктовку, чего у нас никогда не бывало. Для того, чтобы это прошло хорошо, наш учитель фран-цузского языка Mr. Де Ларош похлопотал с нами, продиктовал несколько страниц, разобрал все продиктованное до мельчайших подробностей и предложил все это запомнить, потому что и на экзаменах будет диктовать это самое. Мы его не выдали, заучили. Учитель немецкого языка, бурш из Дерпта О. Аделлов, узнавши от кого-то о нашем соглашении с Де-Ларошем, предложил нам войти и с ним в подобное же соглашение. Мы, конечно, вошли, так как это была наша прямая выгода, и тут дело выгорело. Но вот, наконец, мы узнали, что приехал Лавровский. Через день после его приезда был у нас, выпускных, первый экзамен в его присутствии, и мы были оповещены, что экзамен начнется не в 9 часов, как обычно, а в 8 утра. К этому времени мы уже собрались. Экзамены были по русскому языку, словес-ности и общей литературе (учитель Кованько). В 8 1/2 часов прибыли Лавровский и директор. Вид Лавровского не располагал в его пользу: выбритый наголо, остриженный чуть не до кожи, в золотых очках, сухощавый, подвижной, как-то дергавший правой рукой, особенно когда говорил своим трескучим голосом, был несимпатичен. Экзамен состоял в том, что нам даны были темы для написания сочинения, каждому своя, и рассадили нас отдельно по 2 человека на каждую скамью, на которой в мирное время сидело пятеро или шестеро, да и тут велено было, чтобы сидели по концам скамьи. Это делалось, видимо, для того, чтобы не было между учениками совещаний. Мне дана была тема: “Жизнь в городе и деревне”. Что мог я написать о жизни в деревне, когда не был в ней ни раза во всю мою жизнь, кроме проездов на богомолье весной? В других городах, кроме Тамбова, я тоже не живал; о жизни в Киеве и Нежине я умышленно умалчивал по многим соображениям чисто семейного характера. Не помню, что там написал я, но к двум часам написал и черновое, и беловое, не сделавши, конечно, ни одной грамматической ошибки; на это-то я был мастер и буква “ять” мне была довольно хорошо знакома. Все время пока мы писали, Лавровский, как коршун следил за нами, не сходя с места, и к нам никто не подходил, ни учитель, ни директор. Письменные принадлежности даны были в изобилии. Так как нас экзаменовалось 16 своих и 2 экстерна (Н.В. Давыдов и А. Шидловский, впоследствии важный чиновник в Петербурге), а парт было недостаточно на всех, то некоторых из нас посадили за отдельные столики. С 12 часов началась подача готовых рукописей. В 2 часа, подавая свою рукопись Лавровскому, я должен был под его взглядом подписать “Я - Иван Курбатов” и передать ему. Нам сказано было, что в 3 часа начнется устный экзамен, и предлагалось не опаздывать. Хотя я вышел из дома около 7 часов утра, не евши, даже не пивши чая, а теперь было время пообедать, но как идти домой для этой цели, когда путь в один конец, в Инвалидную, занимал всегда полчаса. Стало быть, чтобы не опоздать, у меня не оставалось бы времени ни одной минуты на обед, и я решился остаться, не уходить, а как только решил это - тут-то и проявился чудовищный аппетит; денег у меня не было, чтобы купить что-нибудь, занять тогда не было возможности, так как все написавшие разошлись, ввиду того, что никто не жил от гимназии так далеко, как я. Но и тут выручил Артюхов. Когда я сидел в пустой комнате, отдыхал, ко мне вошел служитель и подал мне стакан довольно хорошего чая с сахаром в накладку, чего я не пробовал ни разу, и большой 5-ти копеечный калач, говоря, что это прислал директор для подкрепления сил. И с каким же аппетитом выпил я чай, но калач съесть весь не мог: настолько он был велик. Когда служитель вошел за стаканом и спросил, не желаю ли я еще чаю, я, конечно, сказал, что желаю, но мне совестно просить его, так как знаю, что он директорский, но служитель скоро возвратился, неся еще стакан и бутылочку сливок! Это было еще приятнее. Не успел я докончить чай и остатки калача, как вошел директор, поговорил со мной довольно ласково и сказал между прочим, что он хорошо понимает, почему я не пошел домой обедать, ободрял, советовал быть смелее, увереннее в себе и не бояться Лавровского, уверяя, что в душе он не так страшен, как кажется по внешности. В три часа ровно - собрались все снова, и начался экзамен по истории словесности, русскому и церковно-славянскому языку. Тут Лавровский показал себя вовсю: предлагал такие вопросы, на которые наш бедный Л.Е. Кованько, в защиту нас, несколько раз заявлял ему: “Об этом я не сообщал ученикам, как не отмеченном в программе преподавания”. Меня он спрашивал про “юс” длинный и короткий и борьбе между ними. Не знаю, что я нашел смешного в этой борьбе, но только я улыбнулся. Это, по-видимому, задело Лавровского, и он обиделся и даже заметил вопросом: “Вам, видимо, все равно, какая судьба “юсов” в русском начертании?”. Говорю, что их теперь нет, и мне все равно, какова судьба их. - “А Вы хотели бы поступить в Университет?” - “Хочу”. - “На какой факультет?” - “На медицинский”. - “В таком случае Вы должны знать судьбу “юсов”, потому что на медицинском факультете об этом говорить не будут, а каждый отныне выходящий из гимназии с аттестатом будет знать это”. Он поставил мне “2”, но так как остальные присутствующие поставили кто “4”, а кто “5”, то в общей сложности у меня вышло “4”, а по теории прозы и теории поэзии - даже “5”. Мой экзамен происходил в 7 или 8-м часу, и потому я пришел домой измученный и усталый уже совсем вечером, и дома мне не сразу поверили, что я прямо с экзамена, а думали, что я болтался где-нибудь, пожалуй, и по плохим местам. В этот день нас проэкзаменовали только 9 человек, а остальным сказали, чтобы приходили на следующий день. Да и была же им проборка жестокая! Вообще можно сказать, что строгость экзамена тут подтвердилась. По истории, особенно русской, требовались тоже основа-тельные сведения. Мне пришлось отвечать о присоединении к России Малороссии. По обширному учебнику Иловайского, который мы проходили и который я тогда основательно вызубрил, это значилось во времена царя Алексея Михайловича и гетмана Богдана Хмельницкого - в 1654 году. Когда Лавровский спросил о времени присоединения - я прямо, без запинки и ответил, что это было тогда-то. Лавровский меня остановил и сказал, что я говорю неверно, что это произошло на два года раньше или позже, т.е. 1656 г. Я, зная, что у Иловайского сказано именно так, как сказал я, опять повторил свою цифру. Я сослался на учебник, ему дали его, он посмотрел и, возвращая книгу обратно, сказал, что Иловайский заблуждается, и советовал нам всем сделать поправку в книге, но мне поставил все же “5”, ввиду того, что не я виноват в том, что у меня сложилось неправильное сведение о времени столь важного события в Истории России, при этом - укоризненный взгляд на учителя истории. Потом выяснилось, как сообщил нам директор, что Лавровский писал много по поводу присоединения Малороссии и, стало быть, знал основательно это время. По всеобщей истории: древней, средней и новой дело сошло тоже довольно хорошо. Вообще же пришлось отвечать на четыре билета и затратить на ответ более часа. Насколько это было утомительно, пусть судит каждый читающий эту рукопись. Экзамен по истории окончился к вечеру, при огне. Послед-ним был экзамен по латинскому языку и кончился в два. Затем наступил Совет, на котором решалось, что кому дать, кому аттестат об окончании полного курса гимназии, кому - свидетельство, что он вышел из седьмого класса, кому медаль. Я, конечно, не рассчитывал на медаль, но каково же было наше удивление, когда позвали нас в зал и директор громогласно объявил список наших фамилий с обозначением, кто к чему приговорен: против моей фамилии значилось: “аттестат и серебряную медаль”. Многие взглянули на меня, до того это было неожиданно, а я потрогал у себя в ухе, думая, не ослышался ли я. Потом директор говорил, что на медали мне особенно настаивал профессор Лавровский. Стало быть, и борьба “юсов”, неизвестная мне, не повлияла на хорошее его мнение обо мне. С каким облегчением мы вздохнули после всего этого, когда стало ясно, что наступил конец всем нашим тревогам, и вместе с тем стало жаль покидать гимназию, в которой прошло семь лет жизни, хотя и не радостных, но все же семь лет. Домой я пришел счастливый, довольный и объявил о своей радости, но она как-то мало разделялась моими домашними. Только мать сказала, чтобы я похлопатывал теперь о поступлении на службу, и она сама похлопочет. Это для меня было и удивительно, и обидно. Я смолчал, но запомнил. Нам сказали, чтобы через неделю мы явились в канцеля-рию гимназии за получением своих бумаг, т.е. за окончательным разрывом со школой, которая обучала нас. Чувствуя себя вполне свободным, не имея никакого дела, так как репетиторства уже не было, да ввиду скорого отъезда из Тамбова и быть не могло, я большую часть дня проводил на реке, плавая в озера, которых много по другую сторону ее (не городскую); бывал и в Трегуляевом монастыре, находящемся в 7-ми верстах от города, на берегу Цны, уже настоящей реки, а не рукава ее, в огромном старом сосновом лесу (бор), деревья которого были уже и тогда в два моих обхвата. Это замечательно красивое тихое место, любимое для тамбовцев. Здесь в монастыре был впоследствии похоронен один из наших товарищей - Пав. Ник. Надеждин, с которым мы жили вместе несколько лет, будучи уже студентами, и который должен был выйти из университета по поводу так называемой Полунинской истории, о чем скажу впоследствии, говоря об университетском учении. Надеждин был очень близкий мне человек, даже друг; мы с ним снимались на одной фотографической карте, и потом, когда я жил уже в Путятине, он однажды летом приезжал ко мне и прожил около месяца. Кроме езды на лодке не было у меня в это время другого занятия, да и это стало наскучать, и нужно было подумать о дальнейшем существовании, о Москве, об университете. Погово-рил по этому поводу с инспектором (Франц Карлович Нескухов-ский); этот прямо сказал, что университет назначен для тех, которые не нуждаются в средствах, а у кого их нет, тому лучше туда не ходить, а заняться чем-нибудь другим. Директор и сотоварищи советовали ехать именно в Москву, указывая на то, что в таком большом городе - как не найти какие-нибудь обеспечивающие занятия? И я решился ехать. Но как же добыть деньги на проезд и на первое время пребывания там? От спектакля на мою долю досталось 15 рублей. Ник. Вас. Давыдов дал 25 (заимообразно), оставалось не более 10 от прежних уроков (были спрятаны за подкладкой сапога); скопилось немного от продажи ненужных уже учебников, около 10 руб. Вот и все мое богатство. Но чтобы ехать - нужно иметь чемодан; его дал мне учитель истории, женившийся на купчихе, у которой была кожевенная торговля. Я объявил дома, что такого-то числа, именно 1-го августа, я уезжаю в Москву, что решение бесповоротное. И поднялась же буря в доме! Чего только тут не было сказано! Но я стоял на своем, указывал на то, что для того, чтобы поступить в писцы при каком-нибудь присутственном месте, вроде Губернского правления, не стоило оканчивать гимназию, что туда охотно принимают и окончивших уездное училище, оно ведь 3-х классное, а я ведь учился 7 лет. Но это не убеждало моих противников: и мать, и дядя (Аркадий Иванович Казанцев) стояли тоже на своем - что я должен быть полезным для семьи, а не думать о каких-то выгодах лишь для себя. Тут я понял, что они прямо рассчитывали жить на мое будущее жалованье. Это довело меня до такого озлобления, что я готов был бросить все сейчас же и уйти из дома навсегда; мне жаль было только младшую сестру Ольгу, которая была уже почти превращена в рабыню, в безмолвное, терпеливое существо.
Отъезд в Москву и поступление в университет
Этот разговор был у нас в половине июля, а в августе, именно 1-го числа, мы с сотоварищем Орловым в полдень сидели уже в почтовой тележке, запряженной тройкой, и выезжали из Тамбова. Мы ехали на общих расходах, которых предвиделось до Рязани около 25 рублей. Кроме платы на каждой станции по 12 коп. за экипаж, дачи ямщикам по 20 коп. за станцию и кормовых. Вечером в тот же день мы были в Козлове (60 верст), почти не ночевали, а 3-го августа в ночи приехали в Рязань, промокли до костей, так как дорога была и без того невыносимо скверная, а тут все время лил сильный дождь (от станции Раки). Наш путь лежал на г. Ряжск и, проехавши его, мы увидали работы по постройке железной дороги (Рязань - Ряжск). Ямщики наши (мы ехали по подорожной, подписанной губернатором) говорили нам, что эту дорогу делают немцы на погибель им, ямщикам. Мы мало понимали эти рассуждения. Когда приехали в Рязань и остановились на почтовом дворе (это уже ночью), тут только увидали, что у моего чемодана, который лежал в тележке поперек нее, а мы сидели на нем, совершенно отпоролась крышка - он не был завязан веревкой, как полагается, а заперт лишь на замок. Утром пришлось посылать за шорником, который скоро пришил крышку, взявши за работу 1 рубль. Цена очень высокая, и по нашему мнению и мнению коридорного, который привел шорника и потом получил с него на чай. В 12 часов мы поехали на вокзал железной дороги. До тех пор мы никогда не видали фабричных труб, а тут около вокзала была какая-то железнодорожная мастерская и около нее гигантская красная труба, очень занявшая меня своим видом. Спрошенный извозчик объяснил мне, что это за штука такая. Вошли в вокзал, а вещи наши внес носильщик с номером на груди. Он указал нам место, где ждать его еще часа 1,5 - 2, а чтобы к тому времени у нас были готовы билеты. Посоветовав-шись с Орловым, мы не могли понять, про какие билеты говорил носильщик, и решили, что это, вероятно, про паспорта, которых у нас не было, а были только аттестаты, их мы держали в карманах. Потом, из разговоров с соседями узнали, что для того, чтобы сесть в вагон, нужно купить билет, так же как для того, чтобы войти в театр, нужно купить билет. Поняли. Пошли покупать билеты, оставив вещи без надзора, а я, сверх того, положил на свой чемодан черную фуражку (кэпи). Получивши билеты в кассе, вернулись к вещам, но моего кэпи не оказалось на месте, вместе с ним исчез и тот человек, который указывал нам путь к кассе. Первый же урок по железной дороге был довольно ощутителен и неприятен для меня. В условленное время пришел за нашими вещами носиль-щик и понес их в багажное отделение. Тут я, помня пропажу кэпи, уже не отставал от чемодана до тех пор, пока его не положили на тележку и повезли в багажный вагон. Плата за багаж была тогда ничтожная, а за проезд в 3-м классе - 1 р. 61 коп. Носильщику дали мы по 10 коп., он остался доволен, даже снял шапку и пожелал счастливой дороги. Сели в вагоны, осмотрелись с соседями, не решаясь говорить первыми (чтобы не выказать свою неопытность, а, может быть, и невежество), а потом попривыкли, увидавши, что кругом нас такие же люди, как и мы. Езда по Коломенскому мосту очень заняла нас, и мы все задавали соседям вопросы - да как же устраивались устои мостовые или быки? Но никто не мог нам объяснить толком. Но вот доехали до Москвы. Дорогою соседи, когда узнали от нас, что мы едем в Москву первый раз, нам советовали брать извозчика “в город” за 30 коп. Так мы и сделали; получивши свой багаж, который взяли, конечно, сами, а не носильщик, и, не выпуская его из рук, вышли во двор вокзала, где масса была извозчиков, и наняли в “город”, т.е. на Никольскую улицу. Гостиница называлась “Шереметьевское подворье”. Когда я хотел сесть на извозчика, я не знал, как это сделать. Экипаж, теперь давно не существующий, назывался “гитарой” или “калибером”. Эти названия происходили оттого, что форма сиденья всего - и для кучера, и для седока, вместе взятая, напоминала собой большую гитару или бисквиту. Поставлен был этот кузовок на стоящие рессоры, или правильнее - не стоячие, а загнутые в дугу и спереди, и сзади, - и прикреплен ремешками к осям. Такой экипаж был чрезвычайно легкий, а при движении издавал какой-то треск, напоминавший собою барабанный бой. Второе название - “калибер” он получил оттого, что в это время были в употреблении и обыкновенные пролетки на лежачих рессорах, даже с верхом, которые назывались “экипаж большого калибера”, а гитары - меньшего, или просто “калиберами”. Со времени введения городского самоуправления эти гитары были уничтожены. Когда подъехал ко мне на железнодорожном дворе такой экипаж, я не знал, как на него сесть, а ввиду того, что извозчик сидел верхом, держа мой чемодан поперек сиденья перед собой, и я решился сесть верхом, а также и мой товарищ Орлов. Тогда мы уже со двора увидали, что мы сидим правильно, так как встречные и обгонявшие нас были такие же кавалеристы, как и мы, т.е. сидели верхом. Ехали мимо Красных ворот, о значении которых я кое-что знал, по Мясницкой улице, где я был поражен величиной тогдашнего почтамта, и приехали на Никольскую, где и заняли номер с двумя кроватями, ценою за 1 рубль с двумя самоварами в день. Это было 4 августа 1865 года. На следующий день было воскресенье, а 6-го августа праздник; в эти дни мы могли только узнать, где находится университет, а прошения о принятии нас в число студентов могли подать только 7 августа. Но тут нам предстояла большая неприятность. Чиновник, как потом стало известно, секретарь Совета Еналеев, принимавший от нас бумаги, объявил нам, что мы должны будем подвергнуться легкому экзамену, так называемому коллоквиуму, потому что приехали не в свой округ (Харьковский), а чужой. Мы возражали, что в аттестатах наших значится, что мы можем поступить во всякое высшее учебное заведение без нового испытания. На это Еналеев нам сказал, что теперь введено такое правило - без него никто не принима-ется, а если мы не желаем подчиниться ему - можем и не подавать прошения. На вопросы, по каким же предметам и когда будет экзамен - он отвечал: когда будет - будет вывешено объявление на стене университета, а из чего - конечно, из русского языка - сочинение на заданную тему, по математике и латинскому языку. И вот, с унылым видом начали мы ходить ежедневно к стенам университета, справляясь, когда же будет коллоквиум. Но, наконец, как-то случайно забрели во двор нового здания университета и здесь на главной двери увидали только что вывешенное объявление о том, что коллоквиум для вновь поступающих изо всех округов будет 29-го августа по русскому языку, а по остальным предметам - 3-го сентября, а где это будет происходить - неизвестно. Спросить у кого-нибудь не решались, а у кого нужно - не знали. Пока мы ломали головы над решением этого вопроса, вышли какие-то молодые люди, по-видимому, приезжие, как и мы, и один из них говорил, что доволен тем, что хотя бы узнали, когда и где будет эта история. Мы вошли уже смелее в дверь главного подъезда и здесь благообразные швейцары, не похожие на нашего тамбовского Крылова, показали нам новое объявление, подписанное уже ректором, и те же швейцары объяснили, что Новое здание и есть это самое и что здесь будет происходить экзамен 29-го августа. Мы были удовлетворены тем, что знали, как и те молодые люди, которых мы встретили на подъезде, о времени и месте важного для нас события. Время коллоквиума - 11 часов утра. 29 августа мы пришли в университет в 9 часов утра, в ту самую швейцарскую, в которой были раньше, где висело объявление, и нашли тут уже немалую толпу таких же гимназистов и семинаристов, приехавших из разных округов - и Харьковского, как мы, и Киевского, и Одесского, и Казанского, даже Варшавского, и из самой Варшавы. Ждали терпеливо до 11 часов. Ровно в 11 часов показался из профессорской комнаты какой-то высокий, совершенно лысый господин в синем фраке, как потом оказалось - инспектор студентов, знаменитый Иван Иванович Красовский, и громогласно воскликнул: “Буду-щие юристы и филологи, пожалуйте за мной, а медики и матема-тики - в Большую словесную аудиторию”. Быстро прошел через швейцарскую и скрылся где-то. За ним повалила куча желающих экзаменоваться, а мы - уже четверо - остались здесь и не знали, куда нам идти. Прошло более часа, а мы все ждем, куда нам пройти. Швейцары все попрятались куда-то, точно сквозь землю провалились. Пробило 12 часов, опять является Иван Иванович и, увидя нас, спрашивает меня, чего мы здесь ищем и кто мы такие. Я объясняю ему, что мы здесь с 9-ти часов, все ждем, куда нам идти экзаменоваться, и не знаем. “Да Вы здесь в первый раз?” - спрашивает он. - “Конечно, в первый раз и будем очень сожалеть, если это будет и последний”. - “Ну, пойдемте, я Вас проведу к профессору”. Мы пошли за ним, чуть не держась за его фалды. Он привел нас в большую аудиторию, в которой сидело много таких же несчастных, как мы, и все что-то писали. За ними наблюдал профессор Н.С. Тихонравов. К нему обратился Красовский с просьбой принять и нас четверых, потому что мы не опоздали, а не знали, куда нам нужно было идти. Тихонравов не хотел, было, допустить нас, но Красовский убедил его, ссылаясь на нашу неопытность, и тот согласился, однако же с тем, чтобы к 3-м часам мы кончили нашу работу, дал нам по нескольку листов бумаги, чернильницы и перья и сказал, что дано две темы для сочинения: 1) Век Екатерины Великой и 2) Век Людовика XVI. “Пишите, на какую хотите, только не дальше 3-х часов”. Я знал очень хорошо по учебнику Шульгина историю Франции и начал писать о Людовике XVI почти из слова в слово, конечно, вписал и знаменитое изречение Людовика: “L’Etat - c’est moi” . Быстро исписав почти весь лист кругом и подписав его, я одним из первых подал его Тихонравову. Он взглянул на меня внимательно, спросил, что я не один ли из тех, которых привел инспектор, и, получивши ответ, что “да, я один из тех”, начал внимательно читать мою рукопись; но его часто прерывали то тот, то другой, приносившие ему свои работы, а он смотрел за тем, чтобы под рукописью была подпись с обозначением, из какого учебного заведения автор прибыл в Москву. 3-го сентября собрались мы снова на устный экзамен по факультетам. Нас, будущих медиков, поместили в небольшой аудитории; к нам был приставлен помощник инспектора С.В. Добров, который прочел список тех, которые не допускались до устного экзамена, так как письменные работы их признаны неудовлетворительными, а стало быть, поступить в университет они не могли. Я очень боялся, чтобы Добров не назвал мою фамилию. Что, как назовет? Куда мне тогда деваться?.. Но нет, не назвал, ну и хорошо. Скоро собрался чуть ли не весь факультет, во всяком случае, не менее 12-15 человек профессоров под предводительством декана Полунина вступили в залу и начали экзаменовать. Первым вызвали какого-то юношу из Варшавы, окончившего в тамошней гимназии с золотой медалью, спрашивали его что-то очень долго; особенно злобствовал Матюшенков, да и другие были хороши и кончили тем, что забраковали его, признали негодным. Каково было наше изумление, когда мы услыхали, что человека с золотой медалью не пускают в университет, находя его малоподготовленным. Тогда что же мы-то? Разве больше него подготовлены? Но тут и факультет убедился, что если он будет экзаме-новать и дальше так же подробно, то, пожалуй, и через месяц он не окончит это дело, и решил при нас же, чтобы каждый из профессоров взял себе по одному испытуемому и проэкзаменовал его, а по окончании с одним, взял бы другого. Так и сделали. Я попал сразу к профессору детских болезней Н.А. Тольскому. Он предложил мне прочитать мое сочинение, а сам слушал мое чтение. Прочитавши, я увидел, что под моей фамилией красным карандашом было поставлено “5” и подпись Тихонравова. Это меня ободрило. Потом Тольский предложил мне перевести на латинский язык, хотя бы одну строку: я сказал, что в гимназии мы никогда не переводили с русского на другой язык, но я попробую. Оказалось, что перевел; а потом - на немецкий, осилил и это. Тольский сделал надпись: “удовлетвори-тельно по устному”, подписал, сказавши: “Можете уходить, а о результате справьтесь завтра в канцелярии Медицинского факультета”. Прихожу назавтра, уже почему-то смелее, спрашиваю, есть ли список вновь принятых на медицинский факультет. Письмо-водитель, уже совсем старая крыса, просидевший, как говорили про него, не один стул в канцелярии, указал лишь пальцем на дверь, на которой висел список, подписанный деканом, и в нем я прочел свою фамилию. Радости моей не было пределов. Итак, я выдержал экзамен и принят в число студентов университета, т.е. сбылась давнишняя заветная мечта. Я был до такой степени рад, что, придя домой, сейчас же написал о своей радости Артюхову, а потом обратил внимание и на свои материальные силы: оказалось, что у меня, за уплатою денег за квартиру вперед за месяц, осталось всего лишь шесть рублей с копейками. Это на пять лет-то!!
Дополнения
Общественная жизнь и быт Тамбова
Общественная тамбовская жизнь, по понятным причинам, нас не могла касаться и не касалась. Мы мало знали о том, что делалось в городе, кроме того, что узнавали от своих сотоварищей по классу, сыновей зажиточных людей. Слышали, например, о том, что в Тамбов приезжал известный артист-трагик Ольридж, африканского происхождения, что игра его производила большое впечатление, что он играл Шекспировского Яго по-английски, а остальные артисты - по-русски, но, тем не менее, впечатление было сильное. Приезжали и другие артисты, делавшие худо-жественное турнэ, но все это проходило мимо нас. Мы знали хорошо только то, что делалось около нас в нашем переулке. Ближайшими соседями нашими были все мелкие чиновники, служившие за жалованье не более 5 руб. в месяц, кроме тех, которые служили в Гражданской палате; эти получали-то больше, даже 10 и 15 руб. и, кроме того, получали доход за написание купчих крепостей, за которые покупатель платил иногда довольно щедро. А в эти годы помещики стали усиленно продавать купцам свои земли, по ценам, по теперешнему времени, баснословно низким: например, те земли, по которым прошла впоследствии железная дорога на Липецк, продавались по 15 руб. за десятину, а в Усманском уезде, который относился к степной области, и где земля не распахивалась, а сдавалась под выгон скота, даже по 10 и по 8 рублей. Земли свободной было тогда очень мало, хотя засевалось много и хлеба. Тогда не было еще известно, что можно молотить хлеб машиной, а весь он, сколько бы его ни было, обрабатывался цепами, как и во времена Гедеона, и потому не мудрено, что на многих гумнах вместе с новыми скирдами хлеба можно было найти и прошлогодние, и даже оставшиеся от третьего года. У помещиков это было явление редкое, потому что мужики и бабы крепостные должны были работать на барина не менее 3-х дней в неделю и к зиме кончали молотьбу; но у крестьян работа-молотьба продолжалась всю зиму и прекращалась только потому, что нужно было выполнять другие работы. Я помню очень хорошо день 19 февраля 1861 года, т.е. день освобождения крепостных от крепостной зависимости. В других городах, особенно на Севере, этот день ознаменовали особыми торжествами, в каждом по-своему; а в Тамбове, где дворянский элемент был и многочисленный и довольно сильный, и дворянство считало себя обиженным этой реформой, никаких торжеств не было. Особенностью этих дней было лишь то, что на улицах появилась масса крестьян из пригородных селений, прибывших в “Губернию”, чтобы узнать наверняка о таком важном для них событии; они ходили целыми толпами, но не позволяли себе никаких эксцессов, опасаясь полиции, которая была усилена еще тем, что по улицам по временам проходили солдатские патрули с ружьями. В нашем переулке, конечно, тоже говорили об освобож-дении крестьян, но не могли оценить по достоинству эту реформу; жалели, главным образом, помещиков и предсказывали многим из них полное разорение, что в действительности и сбылось в скором времени. Начали появляться мелкие помещики и селиться по окраинам города; почему-то им полюбилась наша Инвалидная сторона, а один даже поселился в нашем переулке, купивши себе здесь небольшой флигелек. Его звали Николай Ив. Субочев. Это был когда-то очень богатый человек, совершенно не склонный к деревенской жизни, юность проведший в Петербурге, на какой-то службе получивший чин сенатского регистратора (теперь уже несуществующий). Он промотал все состояние, получил наследство от умершей бабушки до 1000 душ крестьян, быстро спустил все до последней копейки в московских ресторанах с цыганами и в игорных притонах, остался опять ни с чем, но и тут судьба ему попротежировала: оставила ему наследство умершая тетка; он ее наследством кое-как поправил свои дела, и на то, что успела жена удержать от разорения, он купил флигелек, в котором и поселился с семьей. Его сыновья были нашими сотоварищами по гимназии, но что стало с ними впоследствии - я не знаю; говорили, что будто бы один из них поступил на службу в полицию, но насколько это верно - не знаю. Вообще же помещикам, которые не успели приложить собственное уменье и руки к земле, пришел тогда конец. Кроме Субочевых, нашими сотоварищами по переулку были еще Федоровы, наши соседи, с которыми мы бегали купаться на реку (а мы жили близ реки). Купались с самой ранней весны до поздней осени, иной раз даже до заморозков и никогда не простуживались. Спали мы летом всегда на дворе, для чего каждый из нас пристраивал себе из тесин и досок какую-нибудь будку около сарая, или амбара, конечно, с крышей, а если строительного материала не находилось - спали на сеновале. А в какое-то лето это спанье на дворе было еще необходимо потому, что недели на две все имущество из дома было вынесено на средину двора и здесь его нужно было охранять. Это выселение во двор была своего рода паника, вызванная тремя грандиозными пожарами в Тамбове, следовавшими друг за другом с короткими промежутками, и происходившими, несомненно, от поджога. Причем предварительно указывалось в каких-то письмах, что будут гореть такие-то и такие-то улицы, и это действительно происходило. Много лет спустя, я читал в каком-то журнале статью, в которой описывался один крупный тамбовский чиновник, служивший, кажется, в Казенной палате, великий взяточник даже по тому времени, который решился составить себе состояние и, действительно, составил. Когда улик на него было собрано достаточно - его арестовали и при обыске у него нашли более 200 тысяч деньгами, которые он держал у себя дома. В статье этой названо было его имя, но я забыл его. Пожары эти происходили по его указанию - учинялись по его наущению каким-то поповским сыном. Но тогда-то никто еще этого не знал, видели только, что поджог намеренный, а не случайный, и боялись. Пожары были настолько сильны, что в какой-нибудь час выгорала целая улица. На второй день пожаров, например, сгорела лучшая улица в городе - Дворянская, на которой был и дом полицмейстера, а против него полицейская часть (24-ая) с пожарной каланчей. Паника в городе была велика, и некоторые жители выбирались даже на заречные луга. Когда начинался пожар, какое бы время дня ни было, всегда на ко-локольнях били в набат, а ночью, кроме того, еще трещали трещотки, особые инструменты, которыми были снабжены уличные ночные сторожа. Эти трещотки были деревянные и издавали особый тревожный звук, или, может быть, он казался только таким, потому что он раздавался только тогда, когда была какая-нибудь экстренная тревога. Я сказал, что в это время сгорел и дом полицмейстера. Сам полицмейстер остался жив и цел, может быть потому, что пожар начался днем и кончился днем. Это был замечательный полицейский чиновник из кавалеристов, полковник Колобов. Он очень хорошо усвоил ученье о том, что каждый человек должен быть полезен для других и с этой целью у него были обложены как бы налогом все торговцы, лавочники, извозчики и дома тех лиц, которые не могли, или не хотели на него жаловаться губернатору. У него даже нищие и то были обло-жены податью в размере от 25 коп. до 1 рубля в месяц. Всем им велся список, а тех, которые уклонялись от налога, задерживала полиция и держала под арестом впредь до уплаты следующего с них платежа. В тех случаях, когда раздавался набат, почти в каждом доме непременно кто-нибудь из живущих быстро взбирался на крышу, становился там около трубы и оттуда определял место пожара. Такой наблюдатель оставался на своей вышке все время пожара, а затем, слезая с крыши, всякий раз заглядывал в трубу и иногда и плевал в нее. Для чего делалось последнее - до сих пор не знаю; но оно непременно делалось. Я сказал выше, что иногда в город приезжала театральная труппа, но это было не всякий год, а чаще приезжали цирковые артисты с клоунами и устраивали свои представления. У них сборы бывали всегда полные. Некоторые из них для привлечения публики прибегали к уловкам в виде объявления о том, что в средине представления будет произведен розыгрыш разных вещей бесплатный; требовалось лишь от зрителей сохранение входного билета. Я был на одном из таких представлений и выиграл серебряную десертную ложку, которая потом долго хранилась у нас в семье. Местами для прогулок за городом служили в Тамбове Трегуляевский монастырь, куда чаще ездили на лодке, чем на лошадях, потому что последняя дорога была необычайно плоха, затем село Донское и, особенно, так называемый “Архиерейский хутор”, стоявший в большом старом сосновом лесу, настолько диком, что в нем водились даже барсуки, на ловлю которых собирались целые партии, особенно гимназистов. Иногда в нем видели даже и белок, но чем питались они там - неизвестно, потому что во всем лесу не было ни одного кедра, необходимого для этого зверька. Лес этот тянул что-то на очень большое протяжение, чуть ли не на несколько десятков верст и сливался с казенным бором, отстоявшим даже за 30 верст от города. Вероятно, благодаря этому и весь вообще деревянный строительный материал ценился там не так дорого, как в других степных местах. Я помню хорошо, что отец покупал тогда очень широкие половые доски с доставкой на место по 40 коп. за штуку, и находил, что это стало из рук вон как дорого. Обыкновенный тес для крыши, тоже с доставкой на место, продавался по 8-10 рублей за сотню, и его как-то не жалели. Березовые дрова мы покупали по 20 руб. за куб. сажень, но это никогда не был правильный куб, а только с передней стороны, а с задней бывал не выше 1 аршина. Но такими дровами топили очень редко, разве у богатых людей, в казенных зданиях и в церквах (все церкви были теплые), а беднота и среднего достатка люди отапливались еловыми сучьями, разным хворостом, кизяком, соломой и даже гречишной шелухой. Для топки этим последним материалом в дверке затопа делалось особое приспособление в виде широкой воронки с задвижкой, в которую постепенно всыпалась шелуха; она горела очень жарко, сильно, давала массу тепла, и никогда не бывало угара, зато такую топку никогда нельзя было оставлять без надзора, иначе огонь быстро угасал. Некоторые отапливались даже тем сором (навозом и соломой), который они собирали на базарных площадях, и запасали его массы в летнее время; при сборе его с площади иногда происходили препирательства между сборщиками, иногда переходившие в потасовку, что составляло предмет для наблюдения и развлечения. Свозился такой сор домой или на особых тележках, тачках, а то так и просто сносился в больших мешках, что лежало на обязанности бедных родственников, а у мелких чиновников-писцов этим делом занимались тещи, которые водились почти у каждого. Одно лето много разговоров на разные лады было по поводу столкновения городского доктора Тулушева с новым губернатором; разговоры эти варьировались, но сущность их сводилась к тому, что Тулушев перед приездом губернатора три дня провел в лугах и в лесу, сильно загорел, а нос у него стал даже красным; в лугах он был потому, что делал коллекцию насекомых, особенно мотыльков. Когда делался у губернатора прием всех городских служащих и властей, между ними был и Тулушев, а губернатор, смотря на его покрасневший нос, спросил его, щелкая себя по воротнику: “А Вы, доктор, должно быть, того?” - т.е. пьете. Тулушев, никогда не пивший никакого вина, в свою очередь спросил у губернатора, уже щелкая себя по лбу: “А Вы, Ваше Превосходительство, должно быть - того?”. Губернатор был сконфужен, потому что сам сделал нетактичный вопрос, но они примирились и впоследствии были друзьями. Потом много сменилось губернаторов; были между ними и порядочные люди, были и дрянные, вплоть до знаменитого полковника Рокоссовского, пьяницы и буяна, который даже подозревался не без основания в убийстве одной женщины, но дело как-то удалось замять, и оно не дошло до разбирательства. Рокоссовский был уволен, выехал из города, а потом объявлено было, что он умер. Так дело и кончилось.
Мелкие чиновники В нашем переулке жили много лет много мелких чинов-ников. Это были служащие или в Губернском правлении или в разных палатах. Жили они в очень маленьких домиках, флигель-ках, обыкновенно в три окна на улицу, непременно мазаных глиной и снаружи и внутри, поэтому необычайно теплых, хотя для отопления употреблялись еловые сучья и ветви, а иногда кизяк. Может быть, кто-нибудь из читателей не знает, что такое кизяк, так я здесь объясню. Это смесь коровьего навоза, смешанного с резаной соломой, из которого делается тесто, вследствие того, что его складывают в кучи или в ямы, вливают туда воду и разминают ногами; когда тесто равномерно размешано, его кладут в особые формы, ящики и там убивают какой-нибудь колчужкой; получается черная, довольно жесткая плитка, по форме напоминающая кирпич; его складывают в пирамидки по 100 шт. в каждой и высушивают на солнце. Горит такая штуковина довольно хорошо, дает много тепла. Все дело состоит в том, чтобы полужидкая масса была хорошо размешана. Сбором коровьего навоза на выгоне занимаются обыкновенно тещи чиновников, которых можно здесь видеть около застав с большими мешками за спиной и деревянной лопаточкой в руках. У кого нет тещи, тот ходит сам, причем лишь изредка надевает фуражку с кокардой, а обыкновенно - какой-нибудь картуз, дабы не профанировать чиновничье достоинство. Почти у каждого чиновничьего флигелька есть и садик, но он, в общем, мало прельщает хозяина как сад, а эксплуатируется больше под огород или оставляется без внимания. Эти флигельки были почти все наследственные от родителей, и те, по-видимому, были любителями садоводства, судя по тому, что у них были посажены все хорошие фруктовые деревья, все привитые, и даже на одном и том же дереве было по несколько сортов привитых. Понимающих любителей садоводства не было, за исключе-нием г. Домницкого (брат учителя географии в гимназии), служившего бухгалтером в губернском казначействе, а стало быть, получавшего такое жалование, которое обеспечивало его жизнь и не заставляло месить тесто для кизяков; у него была даже теплица или оранжерея. Ведь это уже роскошь, доступная немногим. Почти все чиновники в нашем переулке были любители домашней птицы и разводили каких-то особых кур и бойцовых гусей. Присмотра за гусями обыкновенно не было, и не более как через неделю после вывода гусенят их с гусыней и гусаком приучали ходить на реку, на целый день, а к вечеру шли за ними или кормили там же, а потом оставляли их на реке или на озере на целые недели. Стало быть, содержание такой охоты летом стоило очень мало. Старые гуси обучали молодых сами. Зимой, обыкновенно в праздничные дни после обеда среди улицы (ведь тротуары были непроходимы) устраивались гусиные бои, т.е. дрались гусаки, а стая, к которой они принадлежали, поднимала неистовый крик-гоготанье, но не принимала непосредственного участия в драке. Иногда бои оканчивались очень печально: противнику ломалось крыло, и он оставлял поле битвы. Смотря по свойству повреждения, хозяин решал, что сделать с побежденным - прирезать его или оставить на племя. Молодые чиновники были любители ружейной охоты, и их можно было видеть часто в переулке, идущими с ружьем за реку, на заречные озера или возвращающимися с них. Если им удавалось что-нибудь подстрелить, трофеи не скрывались, а прикреплялись к поясу напоказ встречным. Счастливых охот-ников было мало, потому что, как тогда говорили, “охотников стало больше, чем дичи”. Охотились также и за рыбой, с удочкой. Этим занимались больше люди преклонного возраста, причем у каждого на реке было свое облюбованное место, и, если его кто-нибудь занимал, то при появлении хозяина места непрошеный гость должен был удалиться. Правило это, неизвестно когда и кем введенное, строго соблюдалось. Кроме того, была еще “невинная” охота на раков; их ловили колпачками или сачками, а приманкой служила обычно поджаренная лягушка. У меня осталось по отъезде в Москву около 20 таких колпачков, а вылавливал я за один хороший день до <....> крупных раков. Была еще в нашей стороне охота до голубей, но чиновники ею не занимались; это было дело мелких мастеровых, особенно столяров и сапожников. Иногда занимались ею и крупные дворяне, как, например, знаменитый по своим свойствам помещик Кошкаров, живший уже на большой улице. Ни карточная игра, ни шахматная, ни даже невинная шашечная не были распростра-нены в Тамбове, кроме клубов. Ни музыкой, ни чтением тоже не занимались. Газеты читались лишь сильно подержанные, которые прошли через много рук, и важные известия приходили иногда через месяц. Зимой после 8 час. вечера редко где можно было увидеть в пешем переулке огонек: все уже спало и была полнейшая тишина.
Крупные чиновники и помещики Жизнь более крупных чинов до нас не касалась, и мы о ней не знали ничего, кроме того, что они бывали в клубе, играли там в карты, на бильярде и проч. Но бильярд был достоянием не только их: он был почти в каждом трактире, где собирался народ самый разношерстный; был он и в трактире при банях. К числу высших чинов относились: вице-губернатор, разные советники и председатели, ну, конечно, и прокурор губернский. Из них теперь припоминаю советника Комовского, советника Дуплицкого, вице-губернатора Остен-Сакена, а из крупных помещиков, часто навещавших город и имевших в нем свои дома - Кандаиди, Гвадолини, Циммермана, Оленина, Сатина и других. Это все были люди с большими средствами, имевшие каждый около 1000 душ крестьян, имевшие или заводы винокуренные, или суконные фабрики, или и то и другое вместе. Так, например, С.М. Лион, губернский предводитель дворянства, по должности своей в то же время и попечитель гимназии, владел огромной суконной фабрикой и винокуренным заводом в селе Рассказове, в 30 верстах от города. Он был очень богат, но жил, как говорили, не по средствам, разорился, бросил все и бежал от долгов за границу. Был там и своего рода Плюшкин - это Циммерман; он тоже, как и Плюшкин, не мог видеть что-либо валяющееся на земле, например, клок кожи, гвоздь, обломок подковы - все это он собирал, относил домой и не заботился о дальнейшей его судьбе. У него был управляющий, поляк Вонсович, так как он сам не мог усмотреть и справиться со своим большим имением. Он любил бывать у соседей на званых обедах и ужинах, приезжал в таких случаях всегда в карете, на отличных лошадях, которых у него был целый завод. Однажды, когда он приехал домой с какого-то званого обеда, его нашли в карете мертвым; он был застрелен, но кто и как совершил это - осталось невыясненным. Известно лишь то, что он приехал на обед с управляющим, а уехал один. Кучер, везший его, не слыхал звука выстрела. Родственники-наследники не особенно заботились о том, чтобы найти виновника смерти старика, после которого они вошли полными хозяевами во владение обширными имениями; до тех же пор старик жил всегда один и никого из родных к себе не принимал, вероятно, опасаясь насильственной смерти, которой все таки не миновал. Ввиду, однако же, загадочности смерти старика, наряжено было особое следствие или комиссия, в члены которой назначен был и мой отец как представитель военного ведомства. Комиссия долго работала, но не пришла ни к какому результату, кроме того только, что оставила кучера “в подозрении”, а все дело решила предать “воле Божьей”. Говорили в нашей Инвалидной окраине, что это дело недешево обошлось наследникам: ведь нужно было удовлетворить всех членов комиссии, да так удовлетворить, чтобы никому не было завидно, чтобы все были довольны. Сколько получил за это дело отец и получил ли что-нибудь - я не знаю и разговоров об этом не помню, но что завидовали его назначению в комиссию неко-торые знакомые, это помню; стало быть, что-то было связано с назначением его в комиссию. Устраненный от управлением имением умершего управляющий Вонсович жил потом в нашей стороне, на Варваринской площади, где построил себе очень хороший дом, в каком-то немецком вкусе.
Консисторский секретарь Был еще один чиновник, не принадлежавший ни к малым, ни к большим - это секретарь Духовной консистории. Его знал весь город по его выезду: ездил он на службу и со службы всегда в коляске, а зимой - в крытых санях, чего никто другой не делал. Одевался он поверх официального мундира в какой-то особый бархатный плащ с шелковой голубой подкладкой, а на голове у него была круглая шляпа со страусовым пером. Одетая в такой костюм фигура его всегда дорогой лежала на мягких подушках в роскошной коляске. Доходы его были неисчерпаемы: ведь сколько было церквей в губернии, сколько монастырей, сколько ежегодно посвящалось в духовный сан молодых людей, сколько переводилось из одного прихода в другой церковнослужителей. И все, имевшие дело с Консисторией, имели дело прежде всего с секретарем ее. Оттого-то он и носил бархатный плащ. Но он был неуязвим по службе своей. Даже такой архиерей как Макарий, впоследствии Митрополит Москов-ский и тот не мог сделать с ним ничего. Говорили, будто бы секретарь Духовной Консистории подчинен Синоду, а там у него была “сильная рука”, недолюбливавшая самого Макария. Может быть и так. Но ведь и уменье жить много значило: ведь он, как секретарь, получал немалое жалованье, рублей 10-12 в месяц.
Тамбовская епархия Тамбовская епархия часто переходила из одних рук в другие, архиереи в ней не долго задерживались, и на моей памяти их сменилось несколько человек. Между другими был там и ставший впоследствии Московским Митрополитом, известный своими учеными трудами по богословию Макарий, написавший два объемистых тома под заглавием “Введение к православному Богословию”. Если одно Введение составляло два тома, то сколько же должно было занять места само Богословие? Это сочинение его переведено на все европейские языки, и он получил степень доктора Богословия, весьма редкую в России; в его время, кажется, было всего три доктора Богословия. Это, однако же, не помешало ему быть большим любителем дамского общества, и после его отъезда в его покоях нашлось много разных вещей, относящихся к дамскому туалету, даже некоторые вещи из белья. С ним однажды случилась неприятная и смешная история на глазах многих. Дело было в том, что тогда дамы носили очень широкие кринолины, т.е. крупнорешетчатые юбки, поверх которых надевались еще сплошные обыкновенные юбки, и уже потом - платье. Диаметр кринолина достигал до двух аршин. Эта штука делалась из стальных очень тонких пружин или из камыша, в виде кругов, один другого меньше и соединенных между собой тесьмами так, что между кругами и тесьмами образовывались четырехугольники, окна от 6 до 8 вершков. Вот в такое-то окно и попала архиерейская нога во время водосвятия на реке (6-го августа), когда толпа напирала со всех сторон на Владыку, и так сильно, что стоявшая ближе других к нему дама не могла удержать кринолин, и, вставая с земли после коленопреклонения, поймала в одно из окон архиерейскую ногу, смутилась этим, а ипподиакон в излишнем усердии хватил Владыку за ногу, чтобы освободить ее, и чуть не повалили его самого. А он, смиренный, не принимал в освобождении своей ноги никакого участия, а видимо разглядывал покрой дамских кальсон. Все это совершилось на глазах всего освященного клира, и дало повод одному из поэтов местных написать целую эпопею, которая, конечно в рукописи, ходила по рукам. Говорили, что будто бы один экземпляр ее был послан и Владыке.
Тамбовский Суд До введения Мирового и Окружного судов по уголовным делам все справлялось в Уголовном суде, который, смотря по преступлению, приговаривал виновного к публичному наказанию на торговой площади кнутом, что выполнял палач, всегда живший в остроге. Он выбирался из тех же уголовных преступников, которым угрожала за их дела каторжная работа и которые соглашались прослужить взамен ее сколько-то лет в должности палача. Потом эти люди перевелись, и оставался лишь один на каждый судебный округ, да и одному-то не было никакого дела, а когда являлась в нем надобность, его привозили как какого-нибудь заморского зверя. До тех же пор в каждом губернском городе был свой палач. И вот этот-то субъект выполнял поста-новление Уголовного суда почему-то чаще на Варваринской площади во время базара, хотя была и другая базарная площадь в другой части города. Для выполнения судебного приговора устраивалось возвышение, аршина в 3 высотой, для того, чтобы весь базар мог видеть и палача и жертву его. Приговоренного везли на особой телеге через весь город, причем он сидел на скамейке спиной к лошади, а на груди у него висела черная доска, на которой было написано большими буквами - или “убийца”, или “разбойник”, или “поджигатель”, или еще что-нибудь. Однажды был такой случай. Была приговорена к телесному наказанию одна крестьянская девица за то, что она убила своего новорожденного ребенка. После наказания она должна была идти в каторжную работу. Она была выведена уже на возвышение (эшафот), секретарь Суда прочитал всенародно приговор Суда, и палач уже ударил ее один раз кнутом, от которого она взвизгнула невероятным образом, как на этот крик из толпы раздался другой крик: “Что вы делаете?! Не она виновата, а я! Она приняла мою вину на себя, а она никогда и не имела ребенка, это был мой ребенок!”. Ввиду такого заявления весь базар огласился криками и угрозами по адресу Суда, и бывшая здесь полиция, во избежание бунта, прекратила экзекуцию. Оказалось потом, что обвиняемая жила горничной у своей же помещицы, очень любила ее, скрывала ее беременность, так как барыня не выходила никуда из своей комнаты, и сама же барыня убила своего ребенка, а когда каким-то путем нашли труп ребенка, горничная сказала, что это ее ребенок и что она сама умертвила его. В вину Суду было поставлено то, что он вел дело небрежно и что по его вине страдало совсем неповинное лицо. Весь состав Суда был сменен, и об этом много говорили в городе.
Тамбовские врачи и аптеки При мне в Тамбове было несколько врачей, из них наибольшей известностью пользовались: 1) Николаев - помощник врачебного инспектора; 2) сам врачебный инспектор П. Вишневский - чуть ли не единственный инспектор из русских во всей России, потому что эти места занимались по преимуществу немцами или финляндцами из Гельсингфорса, хотя программа Медицинского факультета в этом университете была гораздо меньше, чем в чисто русских университетах; 3) доктор Фальк - главный доктор губернской больницы; 4) Триданцов - гинеколог и акушер, за отсутствием специальной работы проводивший время больше за рыбной ловлей; 5) Иковец, занявший потом место Фалька.
У нас принято думать и говорить, что первая ovariotomia произведена в России Красовским в Петербурге. Но я с достоверностью утверждаю, что ее сделал Иковец еще до 1865 года. Утверждаю это я потому, что она была сделана в то время, когда я был еще в гимназии, и тогда по поводу нее было много разговора в публике; конечно, к истине примешивалось и много небылиц. Но, во всяком случае, это было сделано тогда, и при том - с блестящим исходом: больная скоро вполне выздоровела, хотя в то время не было никакой антисептики, ни карболовой кислоты - даже имени этой кислоты тогда не было известно. Теперь, когда мы отчетливо знаем, что за штука киста яичника и как она развивается, можно допустить, что в случае Иковца была, хотя и многокамерная киста, но без пророщений с соседними органами, например, кишками. А если принять во внимание, что тогда не было ни пинцетов Пеана, ни тех материалов, которые употребляются теперь при оперировании и остановке кровотечения, ни марли, ни гуттаперчивых дренажей, то нужно удивляться смелости и находчивости хирурга - решиться на такую операцию при таком состоянии знаний у помощников его, которые не давали себе ясного отчета в том, что они должны были делать, как помогать. Рассказывали тогда, что он начал операцию с 4-мя врачами-помощниками, из которых один тотчас же по вскрытии полости живота заявил, что он уходит, не желая подвергаться ответственности, а за ним постепенно ушли и другие. Так что он остался с одним врачом, фельдшером и акушеркой и докончил с ними операцию, а бывшие помощники наведывались потом ежедневно по несколько раз и так надоели своими звонками, что Иковец велел не отворять им двери и не принимать никого из них, дабы не беспокоить больную. Нужно заметить, что и шов был наложен не шелковый, а булавочный, обвивной. Конечно, наркоз сделан был полный, хлороформный. Эта операция тогда наделала много шума в городе, тем более, что больная была известная особа, кажется, племянница полицмейстера, немолодая уже девица. После этой операции Иковец повторил ее еще много раз, но каковы были результаты теперь - я не знаю; что это был один из самых простых случаев - это несомненно, но замечательна решимость хирурга. Мой хороший знакомый, д-р В.А. Крылов, желавший занять место Иковца после его смерти, был в Тамбове в тамошней больнице, просматривал операционный журнал и к изумлению своему увидал, что из 100 грыжесечений, там сделанных, ни одна не окончилась выздоровлением. Чем объяснить это? Не были ли все эти случаи ущемлением уже гангренизировавшейся грыжи? Но ведь и тогда мог образоваться свищ. А то ведь подряд все со смертельным исходом. Кроме перечисленных врачей, назову еще Васильева, врача при кадетском корпусе, который успешно лечил лихорадки какими-то своими каплями, которые и до сих пор известны в Тамбове под именем “Васильевских”, и д-ра Тулушева, о котором я уже говорил по поводу его столкновения с новоприбывшим губернатором. Других не помню. Военные врачи являлись на короткое время - время пребывания полка в городе, и вместе с полком выезжали из него; осели же там только двое: Потехин и Дубровский, последний был очень молодой человек, только что из Академии, но уже разбитый параличом; он пользовался обширной практикой. Аптек было две: старая - Верогера и новая - Брандта. Обе помещались на большой улице и работали довольно хорошо. Тогда еще не было магазинов, торгующих аптекарскими товарами, но, когда они открылись, дела аптек не ухудшились, и доктору Тулгушеву удалось добиться, что дано было разрешение на открытие и третьей аптеки, а прежние аптековладельцы, устаревшие на своем деле, передали его в другие руки, а сами обзавелись хорошими домами на окраинах города и доживали так свой век.
Ярмарки Особенно оживлялся Тамбов во время ярмарок. Их было две: 1) Десятая, т.е. 10-ая неделя после Пасхи и 2) Казанская, т.е. 22 октября. И та и другая продолжались по неделе, да, кроме того, по неделе же продолжались сборы. На ярмарку съезжалась масса народа. Торговля производилась в постоянных ярма-рочных рядах, хорошо построенных на том месте, где теперь стоит вокзал железной дороги, а вокруг них устраивалась масса временных палаток - и тесовых и полотняных, где бойко торговали железом, кожами, мылом, салом, шерстью, деревянной посудой, а по соседству стояли коновязи, у которых стояла масса лошадей всякого достоинства. Бывали ярмарки, на которые приводилось более 1000 лошадей. Покупатели были или военные ремонтеры, или приезжие из Москвы и других городов. Цены на лошадей стояли по теперешнему времени (1921 г.) невероятно низкие - например, за 150 рублей можно было купить пару одномастных лошадей молодых лет, вполне выезжанных, а лошади для извозчиков не превышали 40 рублей. Некоторые из постоянных тамбовских купцов, как, напри-мер, краснорядцы суконщики, посудники, торгующие обыкно-венно в своих лавках или магазинах, находили для себя выгодным вывозить часть товаров на ярмарку. Это служило для них как бы рекламой. Особенно хорошо в ярмарочное время торговали трактиры, кабаки и, вероятно, разные притоны, которых было вообще в городе немало. Были и игорные дома, в числе послед-них - один маленький на нашей стороне. Была еще третья ярмарка, но исключительно женская или, проще, бабья. Она всегда была в один и тот же день, т.е. накануне Вознесенья или на самое Вознесенье, около Девичьего монастыря. Она замечательна была тем, что на нее собирались бабы и девки со своими домашними произведениями, одетые в лучшие местные костюмы, и по своему разнообразию уборов представляли богатый материал для этнографа. Здесь можно было видеть и мордовские, и великорусские, и малороссийские костюмы со всевозможными украшениями.
Бега Зимой устраивалось еще одно развлечение в нашей стороне - это были конские бега, они устраивались на льду реки. Для этого расчищалась от снега дорожка для бега, шириной сажени две, обставлялась елками, а на концах делались даже заборы. Весь круг тщательно измерялся, а на середине его ставилась беседка из теса, обитая войлоком; в ней чугунная печка. Никаких торговцев с товарами или напитками никогда не бывало. Бега происходили обычно днем часов около двух, не ежедневно, собирали массу народа и были вполне доступны всякому. Пускались лошади, принадлежащие коннозаводчикам. Выигранные призы были обыкновенно серебряные вещи, иногда и золотые.
Климат Тамбовской губернии Климат в Тамбовской губернии изменился. В мое время количество атмосферных осадков в Тамбовской губернии было значительно больше, чем теперь: дожди бывали проливные, о каких теперь не имеют и представления; а насколько велики были вьюги, и сколько выпадало снега - может дать пред-ставление рассказ о таком случае, который был сообщен нам нашим зятем Павлом Николаевичем Покровским, служившим в то время становым приставом в Борисоглебском уезде. Дело было зимой с 64 на 65 год. Ехали из Тамбова в Борисоглебский две монашки, их вез мужик, занимавшийся возкой пассажиров от Тамбова до Борисоглебска, в кибитке, на паре хороших лошадей; ехали, конечно, по знакомому тракту, по которому он проехал не один десяток раз и всегда благополучно, а на этот раз - неудачно. Когда они были в верстах 5-6 от того села, в котором они думали ночевать, поднялась вьюга, и до такой степени сильная, что они скоро сбились с дороги и начали путаться целиком. Отойти подальше от лошадей мужик не решался, чтобы не сбиться совсем, и после нескольких неудачных попыток найти дорогу решили, что он выпряжет лошадей, сядет верхом на одну из них и поедет искать путь, а чтобы не потерять кибитку с монашками, поставит оглобли стоймя и на концы их привяжет по платку. Так и сделали. Мужик поехал и только после полуночи попал в село, отстоявшее версты за 3-4 от кибитки с монашками. Снеговая буря продолжалась больше недели, и искать в это время застрявших в снегу было рискованно. Нашли, однако, возможным сообщить о случае потери двух женщин. Становой пристав, которому сообщено было это, тоже в первое время выехать не мог и поехал в то село, куда попал ямщик, лишь на двадцатый день; он собрал народ и приказал людям идти в ту сторону, из которой приехал ямщик, и не терять из вида друг друга, присматриваясь к тому, не увидят ли они где-нибудь указанные метки (привязанные платки). После продолжительной ходьбы эти знаки действительно показались. К ним собрался весь народ, и, так как все люди были с деревянными лопатами, повозку быстро откопали, и несчастные монашки были еще живы. Они питались там теми запасами пищи, которые у них были взяты с собой. Сами они не знали, сколько времени они просидели в снегу, потому что потеряли счет времени и уже перестали думать и говорить. По доставлении их в село, когда их отогрели, дали выспаться, пообедать горячим молоком, они начали приходить в сознание. В поле их засыпало более чем на сажень снегом. О подобных же случаях, но в меньшей степени, тогда говорили и из других южных уездов губернии, а в самом Тамбове 22-го октября был уже такой глубокий снег, что его перестали расчищать в переулках, и иногда выезжали с улицы во двор прямо через заборы.
|
||
на главную страницу to the head page