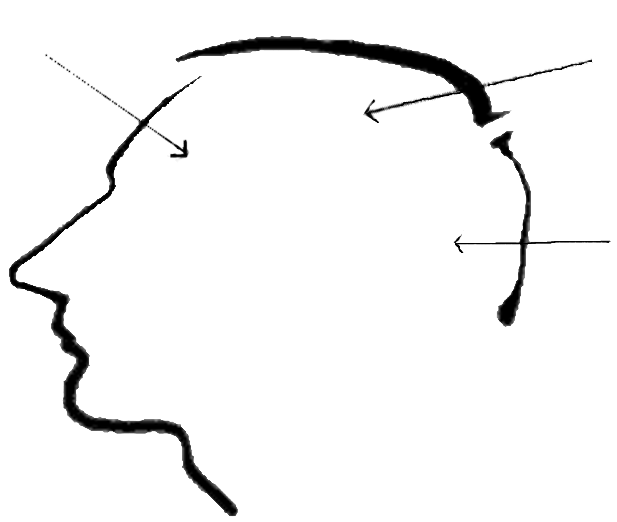 Главная страница
- Леонид Кипарисов. Живопись,
проекты.
Head Page - Leonid
Kiparissov. Painting.
Главная страница
- Леонид Кипарисов. Живопись,
проекты.
Head Page - Leonid
Kiparissov. Painting. |
 "Воспоминания Ивана Ильича
Курбатова доктора медицины 1846-1923"
"Воспоминания Ивана Ильича
Курбатова доктора медицины 1846-1923" |
||
 |
Глава 2. Университет. Студенческие годы. 1865-70 |
 |
|
Чтобы быть последовательным, я должен теперь писать о том, как мы жили по поступлении в университет. Как раньше я сказал, мы остановились на Никольской улице в Шереметьевском подворье, но, находя, что комната нам по одному рублю в день непосильно дорога, мы переехали на Тверскую в гостиницу “Рим”, у которой верхний этаж был занят мебелированными комнатами, и там заняли №20 за 10 рублей в месяц , с двумя самоварами в день и отоплением зимой. Стало быть, на каждого из нас по 5 рублей в месяц, и еще платили по 20 копеек за чистку сапог и беготню или в Охотный ряд или куда-нибудь поблизости в лавку. В этих нумерах или в меблированных комнатах прожил я с некоторыми из товарищей почти два года. Сюда же понемногу подбирались и другие наши тамбовцы, а потом собралось земляков чуть ли не на 10 нумеров. Живя уже в этих нумерах, я стал вполне студентом. Но как же добывать средства к существованию? Обычный способ - давать уроки - был почти невозможен, так как желающих давать их было, кажется, больше, чем желающих брать их. Другое занятие, довольно распространенное - переводы с иностранных языков, было мне неподсильно. Оставалось жить пока в ожидании чего-нибудь лучшего на средства Тамбовской общины. Она выдавала мне по 10 рублей в месяц, но этих денег было недостаточно, потому что квартира стоила 5 руб. 50 коп., обед по абонементу тоже 5 руб. 50 коп., затем нужно было иметь чай и сахар, и табак, и мыть белье, и ходить в баню, и чинить обувь, а иной раз и сходить в театр. На все это тоже выходило рублей 5 в месяц. И, вот, отложивши в сторону всякую амбицию, я отправился в аптеку Лемана, помещавшуюся против нас и там поступил простым поденным рабочим на срок с 2-х часов дня до 11-ти вечера с платой по 20 коп. в день, без харчей и чая. Там-то я и присмотрелся ко всякой аптекарской работе. Обязанность моя состояла в том, чтобы мыть ступки после приготовления в них мазей, мытье вообще всякой посуды, зажигании ламп, подметании пола, толчении порошков, резке бумаги. кипячении воды, перегонке ее и т.п. Со всем этим можно было бы мириться, если бы не одолевала меня перемежающаяся лихорадка, которую я захватил еще дорогой, подъезжая к Рязани, когда меня сильно промочило дождем, а у меня было всегда предрасположение к заболеванию лихорадкой. По теперешним взглядам на это дело, это была малярия, приступы которой являлись при удобных для них случаях. Теперь у меня приступы делались через 2-3 на 3-й и 4-й день, были довольно жестоки, и жар доходил до потери сознания. Если я в состоянии был выдержать коллоквиум, так только потому, что это бывало накануне приступов, а в день приступа я лежал окончательно, а на следующий был настолько разбит и слаб, что наверное не в состоянии был бы написать что-либо. Когда начал ходить для занятий в аптеку , чувствовал себя хорошо, но потом и там начало меня трясти и кто-то из провизоров, видевших меня в таком положении, стал давать мне сернокислый хинин, какой в то время назначался обыкновенно, и, несмотря на то, что я глотал его до оглушения, лучше не становилось. Так продолжалось всю осень и до ползимы, когда я поступил репетитором к князю Оболенскому, жившему на Цветном бульваре в д. Рясовского. Здесь моя лихорадка сразу пропала, точно сняло ее что. Об этом времени жизни у Оболенского я скажу потом подробнее, а теперь буду продолжать свое повествование. Сперва мы ходили обедать в очень большую кухмистер-скую “Византия “, помещавшуюся на Тверской. Здесь был очень большой зал, весьма опрятно содержимый и с довольно хорошо приготовляемыми кушаниями. Порции были довольно увесисты, хлеба давалось по аппетиту и цена за весь обед из 2-х блюд была 30 коп. Можно было получать за особую плату и кофе, и чай по гривеннику за стакан. Но цена эта была для нас велика и мы стали ходить к кухмистеру “Мозгляку” на Кисловку в дом Советова, здесь можно было получить обед из 2-х мясных блюд и нужного количества хлеба и черного, и пеклеванного за 20 коп.; а по абонементу на месяц за 5 руб. 50 коп. Это помещение было полуподвальное, темноватое, грязноватое, но дешевое и потому предпочиталось нами. Какого свойства было мясо - я не знаю, но его давалось немало, больше, чем в “Византии”, иногда была жаренная телятина с картофелем, котлеты с макаронами, очень хорошая гречневая каша с маслом и даже для лакомок слоеные пирожки с яблоками. Конечно это шло как третье кушанье, уже за особую плату. Из обычных посетителей “Мозгляка” я помню Адриана Алексеевича Головачева с естественного отделения физико-математического факультета, впоследствии главного доктора Костромской больницы, Николая Константиновича Козырева - директора Коммерческого училища в Москве в 80-х годах и других; между ними известного впоследствии в московских гимназиях Дм. Назарова. Здесь собиралось иногда настолько много народу, что приходилось ждать, пока освободиться место; разговоры велись и на общие, и на литературные темы. Это был своего рода студенческий клуб . Никакая полиция при нас сюда не показывалась, да и вообще, она тогда по отношению к студентам была весьма предупредительна и не имела права входить на университетскую территорию до такой степени, что когда бывала надобность квартальному по службе видеть кого-нибудь в Правлении университета, так он не смел шагнуть дальше швейцарской и об его приходе уведомлял один из швейцаров. К нам в №№ тоже квартальные не показывались. Квартальными назывались те лица, которые впоследствии стали именоваться околоточными. Но после 4-го апреля 66-го года дело круто изменилось в пользу полиции - ей дан был широкий простор во всех ее действиях, которым она пользовалась больше 60-ти лет и составила себе мрачную репутацию своими действиями. Важное подспорье в жизни недостаточных студентов оказывали существовавшие в то время общины. Общины составляли как студенты всех вообще факультетов, так и вольные слушатели, по желанию каждого отдельно. Член общины обязан был вносить в ее кассу ежемесячно не менее 30-и коп. серебром, имея за то голос при решении всяких вопросов, решавшихся на общих собраниях, имел право делать заем в кассе не выше 50 рублей в месяц, за какой-то ничтожный процент, право пользоваться библиотекой, комнатой не более как на трое суток, делать рефераты в собрании, делать возражения референту и еще что-то. Собрания происходили по соглашению факультет-ских старшин в назначенные дни, а собрания факультетские по предварительному соглашению курсовых старост в общинной квартире. Нашей общине принадлежала квартира на Моховой, рядом с Румянцевским музеем в 3-м этаже. Если кому-нибудь, например мне, нужны были деньги, я должен был сказать об этом курсовому или факультетскому старосте, словом, уведомить факультетского старосту, а этот сообщал общему собранию старшин, собиравшихся 2 раза в неделю и, если проситель был в числе членов общины, т.е. уплачивал ежемесячно взнос, заем ему выдавался без замедления и приносился обыкновенно на дом под расписку. В нашей общине было более 60-ти человек, а капитал ее около 15000 рублей. Библиотека ее состояла из нескольких сот учебников по всем факультетам. Иногда община делала постановление о взносе платы в университет в количестве 25 руб. в год, оказывала пособие при заболеваниях покупкой лекарств или помещении заболевшего в больницу. На открытие кассы испрашивалось разрешение лишь у университетской инспекции и представлялся Устав, подписанный 19-ю членами. Наша Тамбовская община была одна из молодых, сущес-твовала всего 3 года, но другие были старше, и богаче нас. Например, Малороссийская, обнимавшая несколько губерний, хотя уроженцы ее кроме Московского университета ехали еще и в Харьков, и Киев и Одессу. Самая богатая была община Польская, в которую входили уроженцы всех польских губер-ний. Перед закрытием ее в ней было более 100 тысяч рублей и квартира с несколькими нумерами-комнатами. Эта-то община больше всего мозолила глаза Каткову и он видел в ней гнездо коварной польской интриги и революционной гидры; он даже был уверен в том, что Воровский, стрелявший в Париже в Александра 2-го был в числе членов этой общины; но он ошибся и не извинился. Богата была так же Сибирская община. Общины имели громадное значение в материальной жизни недоста-точных студентов, и это значение особенно стало заметно после того, как общины прекратили свое существование по распоря-жению Правительства. Был еще один источник для поддержания существования недостаточных студентов - это ежегодно даваемые балы и концерты. Хотя сборы на них бывали по нескольку тысяч рублей, но все они шли в руки инспекции, по усмотрению которой и выдавались, скажу кстати - не всегда правильно и целесообразно. Инспектором студентов был в это время Иван Иванович Красовский, известный всей Москве. Раньше он был военным, никогда не нюхал университетского образования. Во время Севастопольской войны был адъютантом у Главнокомандующего, был послан со словесным приказом на место боя и так был поражен им, что забыл совсем приказ, с которым приехал, и на вопрос командующего, что приказал Главнокомандующий? Отступать что ли? Закричал, точно обрадовался чему-то: “Ну да, ну да, отступать!” и сам поскакал вперед. А ему приказано было что-то совсем иное. Ал. Константинович Толстой, воспевая это событие в одной солдатской песне, говорит: “Кто-то переврал”. Где он был после этого не знаю, но я застал его уже инспектором, при котором было пять помощников, из них два по медицинскому факультету, разбросанному в разных местах города. Формы у студентов в это время уже не было: она уничтожена почему-то после знаменитой битвы на Тверской площади, которая называлась битвой под Лейпцигом. О ней я расскажу, когда-нибудь впоследствии, здесь отмечу только, что она была в 1861 году. Эта отмена формы сказалась скоро в том, что на лекциях стали появляться и такие лица, какие ничего общего с уни-верситетом не имели, как оказалось потом - люди совершенно свободных профессий, т.е. без всякого дела, даже хулиганы и любители ревизий чужих карманов, но когда объявлено было, что все студенты и вольные слушатели при входе в аудитории должны предъявлять свои входные именные билеты, выдаваемые инспекцией, эти любители сразу исчезли. Между вольными слушателями на других факультетах, кроме медицинского было немало молодых офицеров и даже молодые люди духовного звания в рясах. У нас вольнослушатели попадались редко: они заходили к нам из Нового здания универ-ситета ради любопытства, потому что билет давал право посещать вообще все университетские лекции без различия факультетов. Первая лекция, на которую я попал, была лекция - анатомия здорового человека, т.е. анатомия описательная. Она читалась в особом здании, анатомическом театре, стоявшем в саду старого здания университета. В нем, теперь уже перестроенном заново, помещается гистологический кабинет, а для анатомического театра построено новое 2-х этажное здание с полуподвалом для хранения трупов. Кроме анатомии здесь же читалась для медиков минера-логия, судебная медицина для 5-го курса и гигиена с диэтикой для 2-го курса. Анатомия читалась в очень большом овальном зале, в котором места для слушателей были расположены амфитеатром в несколько рядов, один другого выше, а в центре их стоял большой стол, на который клался или целый труп, или части его. На противоположной стене висели часы с надписью: “скупуйте время” и с таким боем, какой мне впоследствии приходилось слышать у часов на старинных башнях в Германии. Когда мы в назначенный срок явились на лекцию, скоро появилась какая-то большая фигура с громадными усами и баками, одетая в какой-то особый костюм: очень длинное пальто из черной клеенки, застегнутое до верха и на рукавах у запястья. Мы не знали, что это за особа, но хорошо узнали впоследствии, потому что имели с ней дело почти ежедневно, когда были на 2-м курсе. Это был прозектор при кафедре описательной анатомии Николай Дмитриевич Никитин, написавший исследование о подзатылочном нерве и исследование о сухожильных расшире-ниях и фасциях у человека. Фигура вошла и уселась в кресло, рядом с другим креслом, назначенным, видимо, для профессора. В аудитории было полное молчание. Минуту спустя отворилась боковая дверь и из нее вышла еще более массивная фигура, подошла к своему креслу рядом с Никитиным и, не садясь, раскланялась с нами и отрекомен-довалась очень низкою октавой : “Профессор анатомии Иван Матвеевич Соколов”. Это был очень высокий человек, довольно толстый, заросший пушистыми баками; в лице его все черты были какие-то крупные, неуклюжие, как будто бы не на своем месте, застывшие там, где поместила их природа. Он начал так : “гг. студенты! Наши беседы будут вестись по поводу анатомии нормального человека, по поводу той науки, которая составляет основу медицины, все значение которой Вы оцените по достоинству лишь впоследствии”. Что дальше он говорил, теперь я, конечно, не помню, так как с тех пор прошло почти 60 лет, но помню, что он несколько раз повторял, что знание анатомии для врача необходимо, как знание букв для писца или чтеца, и все в том же духе. Все это говорилось, по-видимому, с той целью, чтобы убедить в важности изучения анатомии. Затем была воздана похвала средневековым анатомам, указано было на те затруднения, с которыми они встречались при своих исследованиях, о преследовании темной человеческой массой, особенно духовенством, которое считало рассечение трупа обидным и оскверняющим человека. Лекция продолжалась часа два, от 10 до 12, и все время хрипел голос профессора, а по временам издавались какие-то особые звуки - точно досками ударяли о колени. Наконец пробили часы 12, и Соколов распрощался с нами, сказавши, что продолжение беседы он будет вести в следующий раз. Все мы от напряженного внимания были изрядно утомле-ны, а я в особенности потому, что у меня уже начинался приступ моей болезни, лихорадки, и я невольно подумал о той массе труда, которая мне предстояла, при полуголодном состоянии и при постоянной заботе о прокормлении себя. Хотя я жил и очень близко от анатомического театра, однако пришел домой в самый разгар пароксизма лихорадки и прямо свалился на постель под ее напором. Приступ болезни в этот раз был у меня особенно сильный, вероятно от того, что я до сих пор ничего не ел и утомился напряжением внимания в течение 2-х часов. На лекции Богословия, которые читал первым курсам всех факультетов вместе профессор свящ. Сергиевский, я, конечно, не пошел и не сожалел об этом, так как бывшие на ней сотоварищи говорили потом, что содержание лекций не значилось в программе и касалось соображений о важности Богословия для каждого образованного православного христианина. Кроме основного предмета (анатомии) и богословия на первом курсе читалось, как вспомогательные науки: зоология низших животных (проф. Анат. Петр. Богданов), ботаника (Н.Н. Кауфман), минералогия (А. Н. Толстопятов), неорганическая химия (Н. Е. Лясковский), сравнительная анатомия (Ворзенков), физика ( Любимов) и энциклопедия медицины ( Мин). Кроме того, еще три часа в неделю шли занятия немецким языком (Траутильдт). Свободных часов, как на других факультетах, у нас не было. Преподавание физики шло нам совместно с фармацевтами, со множеством опытов и без формул; это было как бы популярное чтение для лиц, никогда не слыхавших, что за штука такая физика, а ведь мы изучали ее два года в гимназиях, выводили и формулы в отделах о рычаге и свете. А как мы могли понимать сравнительную анатомию, когда не слыхали еще ничего о нормальной анатомии, не знали даже, какие кости есть у человека - это осталось на совести тех, которые поставили эту науку на 1-й курс медикам. Тоже надо сказать и относительно Энциклопедии меди-цины. Потом, через много лет, ее читал уже на 4-ом курсе профессор физиологии Л. З. Мороховец и вызывал большой интерес у слушателей. Изложение зоологии низших животных было до того сухо, до того непонятно, без всяких чертежей и рисунков, что не оставляло в памяти и представлении реши-тельно ничего; это тем более непонятно, что читал ее извест-нейший зоолог, составивший себе почетную известность даже за границей. Это был в жизни довольно ловкий человек, умевший ладить с высокопоставленными лицами и сильными мира сего, благодаря чему ему удалось потом, почти одному, устроить в Москве этнографическую выставку, на которую были отпущены Правительством очень крупные суммы. Он же привлек к устройству ее некоторых министров, генерал-губернаторов и людей с крупными капиталами. Он умел помазать по губам этим людям и тем, что ходатайствовал перед обществом естествознания, антропологии и географии об избрании их в почетные члены, а великого князя Константина - председателем этого общества, чему он был, конечно, очень рад, ибо на обязанности его лежало лишь подписание разных дипломов, а богатые люди давали довольно крупные суммы на снаряжение разных экспедиций от общества. Преподавание минералогии (без кристаллографии) ограни-чивалось одним часом в неделю и касалось тех металлов и минералов, которые встречаются в природе и употребляются в медицине (селитра, поваренная соль, железная руда, глауберова соль и т. п.). На лекциях немецкого языка почти никто не бывал, человека 3-4, и то из тех, которые хотели намозолить глаза лектору своими лицами. Преподавание состояло в переводах с немецкого на русский каких попало статей. Серьезней всего и интересней было живое слово, сопро-вождаемое массой опытов, у профессора химии Лясковского. Он до того увлекал аудиторию, что нередко лекции его окан-чивались аплодисментами. Им особенно увлекались два наших студента - Остроумов, впоследствии профессор, и Андреев, последний даже не стал держать переходные экзамены, чтобы остаться на второй год и иметь возможность заниматься в лаборатории. Здесь же он нажил себе чахотку и скоро умер. Имея билет для свободного входа на лекции без обоз-начения факультета, я, любопытства ради, заходил иногда на лекции других факультетов и попал к филологам на лекцию философии профессора Юркевича. Теперь, конечно, я не помню, что он толковал о том, что если рядом лежат единое и многое, то что произойдет, если мы единое полжим на место многого, а многое на место одного. Оказывалось, что они поменяются местами, что было очевидно и без всякого предварительного толкования. С тех пор у меня отбилась всякая охота к фило-софии и к лекциям Юркевича особенно. Был еще на лекции проф. сельского хозяйства Якова Калиновского, известного тем, что он перевел массу книг с иностранных языков на русский и, как говорили знатоки дела, все книги чрезвычайно важные по сельскому хозяйству. Особенно ввиду того, что у нас почти не было своей литературы по этому делу. Слушателей у Калиновского было немного, не больше 10-12. Он сел на кафедру и, сказавши “сегодня я Вам скажу...” отправился рукой в боковой карман сюртука и, не найдя там того, что искал, отправился рукой в задний карман сюртука, опять повторяя, что он скажет что-то, а когда и там не нашел желаемого, уже закончил фразу, повторяя: “Сегодня я вам скажу, что лекцию читать не буду, потому что забыл дома записку”. Встал, раскланялся и ушел. Был я на лекции известного профессора русской истории Сергея Мих. Соловьева, написавшего к тому времени уже 16 томов Русской истории. При мне он читал хвалебное слово Екатерине II, восхвалял ее за все и про все, хвалы были самые напыщенные, высокопарные, речь медленная, внушительная. Он особенно много воздавал ей благодарности за то, что она умела выбирать людей и хвалил, конечно, и Потемкина и Орлова, и Ланского и даже Салтыкова и Зубова; говорил, что все эти люди сделали для России очень многое полезное; но мы знаем теперь, что они сделали очень многое полезное не для России, а главным образом для себя и матушки Екатерины. Бывал ли я еще у кого-нибудь из профессоров других факультетов - теперь не помню, а от товарищей, бывших в нашей квартире, конечно слышал разговоры о разных профессорах: юристы много говорили о Капустине, Лешкове, Веляеве, Варшеве; филологи говорили о Леонтьеве, издававшим сборник “Пропилеи”, Тихонравове, написавшем что-то очень много, в том числе, и целое творение о Гоголе ; математики говорили о Давидове, Цингере, Ершове и т. д. Делать дальнейшие наблюдения я не мог, а потому и здесь не распространяюсь об этом, а скажу, что наша жизнь ограничивалась довольно узкими рамками того, что нас окружало. Осенью уже один из наших сотоварищей по гимназии, но будучи, уже в 7-м классе, перешедший в Москву и там окончивший, тоже поступивший на медицинский факультет Александр Иванович Ломан, достиг в это время совершеннолетия и получил от умершего отца наследство, что-то много больше 100 тысяч рублей. Это сразу изменило его: он бросил университет, стал давать пирушки, жил в большом номере, рублей по 40-50, потом занял даже отдельную квартиру, взял и прислугу лично для себя и проч. Конечно к нему скоро присосались разные пиявки, пили, ели у него и все соблазняли поиграть в карты, но так и не соблазнили. Но зато втравили в предприятие - постройку в Сокольниках вагоностроительного завода. Постройка началась уже <.....> кажется 20-й или 21-й будущий вагон, но в это время оказалось, что денег уже нет и достать негде. Ломан бросил все и уехал в Одессу, женившись предварительно на особе из публичного дома. О нем и слухи пропали. Если бы кто-нибудь из читающих эти записки подумал, что он найдет в них описание общественной жизни Москвы за это время, то пусть он разочаруется, в них не будет сказано по этому поводу ни полслова; московская жизнь шла мимо нас, а мы поглощены были всецело лишь тем, что касалось нас лично и отчасти университета, насколько это касалось нас, или близких к нам сотоварищей. Сама же Москва того времени отчасти записана моим другом Н. В. Давыдовым, под именем “старого москвича” и помещена в нескольких нумерах Русских ведомо-стей в последние годы перед революцией; к ним-то я и отсылаю желающих ознакомиться хотя отчасти с Москвой того времени. В ноябре 1865 года открылась Петровско-Разумовская Сельскохозяйственная Академия. Здание Академии помещалось верст за 6 от Москвы в прекрасной местности с большим парком и прудом. Раньше весь участок земли, теперь принадлежавший казне, был собственностью частных лиц, переходил из рук в руки, одно время им владел какой-то аптекарь, а теперь он приобретен собственно для Сельско-хозяйственного института или Академии, как его называли. В первое время, чтобы открыть институт, прием в слуша-тели был без всякого экзамена, вследствие этого состав студентов был самый невозможный: это были уже не наших лет молодые люди, а гораздо старше, некоторые были уже с посиневшими носами, постоянной хрипотой, как поклонники не только тайные, но и явные Бахусу. Где они были раньше, чем занимались, каков их образовательный стаж - неизвестно. Кажется все то, что было в России ни к чему не пригодного, ни к чему неспособного и много ос ебе говорившего - все это поступило в институт. Жили эти лица также на своих квартирах на выселках и, кажется, причиняли немало беспокойства своим хозяевам. Первоначально находились там: церковь, существу-ющая и до сих пор, Главное здание и два флигеля для квартир профессоров. Больница и скотный двор, прочие постройки были возведены уже впоследствии. На всем пути от Главного здания до Бутырской улицы не было ни одного дома, кроме соломенной сторожки. Вся масса дач строилась уже потом, год за годом. Для удобства живущих там в сообщении с Москвой, 1-й директор института, он же и профессор ботаники Железнов устроил сообщение - дилижанс, отходивший раза 3-4 в день и останавливавшийся в Москве около Страстного монастыря. Он был довольно поместительный, вмещал в себя 8 человек, везли его 4 лошади довольно быстро. Цена переезда была 25 копеек; я говорю об этом потому, что тогдашние петровцы почему-то особенно полюбили наши нумера, ежедневно бывали в них целой толпой и, конечно, вваливались и в мой нумер. Мы жили с Орловым, сперва относились к ним безразлично, а потом стали считать их совсем нежелательными гостями. Между ними был лишь один до некоторой степени симпатичный, да и тот поляк, Сорочинский, чуть ли не единственный, который окончил курс в институте из всего первоначального сброда. А ведь сразу-то их поступило около 100. Между ними было много нигилистов, недовольных всем, высоко ценивших свою болтовню, дерзивших каждому, ко всему относившихся с пренебрежением, в том числе и к научным занятиям, ради которых они приехали в Москву - революцио-неры от зависти. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно там, около пруда, в гроте раздался первый выстрел русской революции, убивший довольно порядочного студента Иванова, заподозренного в измене. В последующие годы состав студенчества изменился, потому что требовался аттестат об окончании гимназии, а потом даже ввели конкурсный экзамен, понятно, на который, конечно, не хватило бы дерзости ни у одного из поступивших в первый год. Убийца Иванова студент Нечаев и поступил-то в институт кажется не для учения, а для революционной пропаганды, как выяснилось потом на суде. Надоели мне тогда эти петровцы, а особенно один из них Воронин, до невероятия, да и болезнь моя все не оставляла меня. Я уже подумывал о поступлении в больницу, но не решился на это ввиду того, что считал нужным посещать лекции. Но положение мое круто изменилось, когда я оставил наши нумера, а произошло это потому, что мне предложено было моим же сотоварищем Н. В. Давыдовым поступить репетитором в один семейный дом. Дело произошло так. В деревне, в Кирсановском уезде в имении Давыдовых жил постоянно свой врач Петр Федорович Майер, брат которого Павел Федор. Майер жил постоянно в Москве на Страстной площади рядом с Екате-рининской больницей в д. Сухово-Кобылина (автора Свадьбы Кречинского); этот Павел Федорович был в свое время известный в Москве практикант, но так как был он неопытен в жизни, не сумел составить себе состояние, он кажется был годовым врачом у князя Оболенского. Вот он то и сосватал меня представить Оболенскому (на Цветном бульваре). Я, наверное, произвел на него недурное впечатление, и он тут же предложил мне приехать к нему в тот же день, что я и сделал. Не могу удержаться от того, что бы не записать несколько строк об этом моем новом положении. Сам князь Василий Андреевич Оболенский был известен всей Москве за свою внешность: он был маленького роста, потому что был горбатый, кособокий, одна нога у него была короче другой, поэтому он хромал, был одноглазый, картавый, плешивый во всю голову и носил рыжий стриженный парик, брился наголо; ему было в это время лет 50-60. Несмотря на свое уродство - это был добродушнейший человек. Он состоял на службе при особе Московского Генерала-губернатора кн. Долгорукова в качестве одного из многочисленных чиновников особых поручений, жалованья, конечно, не получал и никаких поручений не исполнял, разве лишь являлся иногда в качестве доверенного от Долгорукова или представлял его на каких-нибудь торжествах или официальных обедах невысокого свойства. Он был много лет Каширским (Моск. губ.) уездным предводителем Дворянства, но в деревню никогда не ездил. За свое продолжительное предводительство он был известен Александру 2-му и жене его Марии Александровне. За свои уродства Москва звала его Квазимодо (Quasimodo), герой романа Виктора Гюго “Notre Dame de Paris”. Жена его, княгиня, Прасковья Львовна, была простая, бывшая его крепостная девица большого роста, грузная, объемистая, краснощекая, вполне русская деревенская красавица, лет 40-45. У них была дочь, Евфимья Васильевна замужем за Шиловским, который готовился в институт военных инженеров, а теперь, будучи офицером, состоял кем-то при Военно-окружном суде. Самый молодой член этой семьи был сынок Василий Васильевич Васильев, к которому я был приставлен, и который уже 5-й год в 6-ом классе гимназии. Меня поместили с ним в одной комнате. Это было не злое, а добродушное существо, большой поклонник театра, особенно Малого Московского дома и балета вне дома. Он, видимо очень страдал от того, что небогат. Лучшим другом его был молодой человек без всякого дела, впоследствии артист Малого театра, под именем Логиновский, а настоящее его имя было Шиловский. Я прожил у Оболенского 5-6 месяцев и за все это время, мне ни разу не удалось поговорить с моим Василий Васильевичем об уроках к завтрашнему дню: то у них гости до полуночи, то ему необходимо уезжать с отцом или сестрой, так и тянулось до экзаменов, а тут оказалось, что он не допущен до экзаменов потому, что не посещал гимназии половину учебного года. А, между тем, я всегда утром снаряжал его в гимназию, спрашивал не забыл ли он взять что-нибудь. Он отправлялся всегда из дома очень озабоченным, брился, молился, просил мою руку на счастье, уходил, а в определенное время возвращался домой и на мои вопросы о том, что спрашивали его кто-нибудь из учителей, он всегда отвечал одно и то же - никто не спрашивал. Я никак не мог понять, почему его никто не спрашивает, а потом дело разъяснилось и оно состояло в том, что утром он вместо гимназии со своими книгами отправлялся к своему другу Шиловскому (угол Мал. Дмитровки и Страстной площади), переодевался там во фрак или сюртук по надобности, и вместе с Шиловским брали лихача извозчика и отправлялись с визитами к артисткам балета или актрисам Малого театра, а затем он приезжал опять в строго определенное время к Шиловскому, переодевался в гимназический мундир, брал покинутые утром книги и приходил домой. Обо всем этом я узнал лишь тогда, когда стало известно, что он оставлен на 6-ой год в том же классе; тогда это можно было делать в Москве, где было 6 гимназий, только переходи из одной в другую, и в каждой будешь считаться сидящим в классе первый год, не то что в провинциальной гимназии, там этого не скроешь. Когда проделка Вас. Васильевича обнаружилась, старик князь командировал меня в гимназию (4-ю), направил узнать в чем все дело, и там инспектор сказал мне, что Вас. Васильевич со святок не был в гимназии ни разу, и причина неявки его осталась невыясненной. Когда я сообщил об этом дома, поднялась целая буря, посыпались упреки и мне - чего я смотрел. “Зачем не провожал его в училище, - говорили, - малолетка”. Как я ни оправдывался, что это не мое дело, что я должен был лишь заниматься с ним дома, а не провожать его в школу, тем более он старше меня на два года - ничто не помогало, княгиня стояла на своем, что я плохо занимался с ее сыном, а я вовсе не занимался с ним за его систематическими уклонениями от занятий. Дальше я считал себя не в праве оставаться в этой семье, о чем и заявил князю на другой же день утром и уехал в свои излюбленные нумера “Рим”. Но в это время наших тамбовцев никого там уже не было: экзамены у нас были почти кончены на всем факультете и я остался совсем без дела и, чтобы не быть праздным, я начал ходить в Румянцевский музей, читать книги, а иногда заниматься в аптеке Лемана уже по 10 коп. за час работы. Этим я и существовал и, скажу прямо, существовал недурно. Только на беду мою поселился со мной наш же тамбовец, годом старше меня Иван Никитич Алексеев, такой прохвост, каких я и не видывал; он был студент-юрист, но специальность его состояла в карточной игре, и он, обладая некоторой степенью ловкости в шулерстве, надеялся этим составить себе если не состояние, то некоторое обеспечение, но жестоко ошибся; он напал на целую шайку еще более ловких прохвостов и они обыграли его дотла. Экзамены сошли у меня вполне благополучно, кроме химии, по которой я получил 3, а по остальным 4 или 5, в среднем выводе более чем 4 1/2; стало быть я имел право просить о назначении мне казенной стипендии, о чем я и подал прошение, но так как назначение и определение о назначении и уведомление требовали от канцелярии некоторого времени, то обыкновенно первая получка бывала в конце ноября или в декабре, что было и со мной, а до тех пор нужно было как-нибудь перебиваться и я перебивался, но ввиду скорого получения 200 рублей в год и освобождения от платы, теперь уже повысившейся до 50 руб. в год. Я не унывал и позволял себе некоторые экстренные расходы, как например посещение Bierhalle “Эльсина” на Тверском бульваре, которая привлекала к себе массу публики как своим географическим положением (Тверской бульвар, дом графини Дешово), так и тем, что там было много разных газет и русских и немецких, и даже были французские, и можно было получать за 15 коп. громадный биток, жареный в сметане, чего в других пивных не бывало. А в конце августа начали подъезжать уже наши тамбов-цы и приезжие и новые, жаждущие поступления в университет. Между последними был один очень милый, которого я знал по гимназии, годом моложе меня, это Евгений Иванович Петров, живший в нашей же стороне на Варваровской площади, сын бедной, но вполне приличной чиновницы. Ему за сочинение, написанное на коллоквиуме Тихонравова поставили 1 за какую-то ошибку и его не допустили до экзамена устного; нужно было возвращаться домой, а на следующий год он поступил в Медико-хирургическую Академию в Петербург; прошел все мытарства благополучно, стал военным врачом окулистом и, леча где-то массу собранных больных глазами солдат, сам заразился от них, ослеп, а впоследствии умер. Смерть его стояла в связи с той септической формой болезни, которой он заразился... Между вновь поступающими был тоже тамбовец Ефре-мов, чистокровный нигилист, особенно выставлявший на вид свое отрицание всех приличий. Например, он считал возможным ходить по коридору в одной ситцевой рубашке и таких же кальсонах, босиком, нечесаный, кудлатый, с папиросой во рту и свободно поплевывал то в ту, то в другую сторону. В таком наряде он вышел даже на улицы, чтобы бежать в Охотный ряд, но тут его задержал городовой, скоро отпустивший его, когда узнал, что он хочет быть студентом и живет в “Риме”. Этот Ефремов старался копировать бывшего у нас учителя Ермольева (законоведение), о котором я на своем месте упоминал, но у Ефремова выходила не копия, а пародия, при том самая грубая, нескладная. Его тоже забраковал Тихонравов, но от нас он уехал лишь некоторое время спустя, а до тех пор прогуливался по коридору в своем костюме или ходил в своей комнате громко браня Тихонравова за несправедливую оценку его знаний по русскому языку. Брань была площадной. Все жильцы нашего этажа свободно вздохнули, когда узнали, что Ефремов уехал, а он не уехал, а просто бежал через черный ход вместе со своим довольно тощим чемоданом в руках, не заплативши даже за квартиру, и мы, жильцы, чтобы не оставлять дурного мнения в хозяйке о наших согуберниках, должны были сложиться и заплатить ей за убыток, причиненный Ефремовым. Хорошо еще, что он ничего не украл, а наш коридорный Андрей потом говорил, что он постоянно следил за тем, чтобы сударь Ефремов не припрятал чайные ложки, хотя они и не серебряные, а все же ложки, и, стало быть, стоят что-нибудь. Люди, подобные ему встречались тогда часто, а в Петровско-Разумовском в первые годы существования института их было множество; недаром их выгоняли потом оттуда целыми партиями. В это же лето приезжал к нам из Рязани окончивший там курс семинарист Иван Нестерович Теплов, сын сельского очень приличного священника. Этот был типичный чистокровный семинарист того времени: способный, работящий, неуклюжий с внешней стороны до невероятия. Он мог говорить и спорить на отвлеченные темы целыми часами, но речь его, а особенно жестикуляция были какие-то деревянные или слоновые. Сперва мы сошлись с ним, жили даже в одной комнате, а потом как-то, за отсутствием взаимной симпатии, разошлись, разъехались и больше уже не сходились. Он меня называл не иначе как “барин хороший”. Вообще, семинаристы того времени носили на себе какой-то особый отпечаток, даже если они занимали и важные места. Например мой приятель по Тамбову Алексей Васильевич Водковский, окончивший одновременно со мной курсы в своей семинарии, а потом ставший известным на всю Россию, потому что был уже Петербургским Митрополитом Антонием Водков-ским был и тогда очень приличным, но, все же, глядя на него можно было сказать: “это семинарист”. Этот отпечаток лежал и на некоторых профессорах. Ну вот открылся учебный год и я уже студент 2-го курса, медик. Из новых для нас профессоров здесь нам читали: А. И. Бабухин гистологию и физиологию и Гивартовский - органи-ческую химию, фармацию и фармакологию с упражнениями в лаборатории. Гистолгия тоже сопровождалась практическими занятиями, но под руководством не Бабухина, а его прозектора Л. Л. Дювернуа и Шнейдера, сам же Бабухин по большей части лежал в своем кабинете. Читал он гистологию несомненно хорошо, ясно, определенно: сообщал все новое , что делалось по этой науке, но читал далеко не постоянно, иногда делал пропуски не только на недели, а даже на месяцы. Например во втором полугодии 2-го курса он прочел нам всего лишь три лекции, остальное время болел злым российским недугом, т.е. запоем и допился до того, что чуть не сжег свою квартиру в университете, стараясь выгнать чертей из всяких закоулков, за шкапами, сундуками, столами, выгонял он кадильным дымом с соот-ветствующими заклинаниями. При нормальных условиях это был несомненно даровитый человек, но любовь его к немцам и всему немецкому чересчур ясно выражалась во всем и доходила до того, что он считал только немцев способными к науке и культуре, а остальных европейцев в том числе и французов и англичан отодвигал на задний план; о русских и говорить нечего, их он мешал с грязью, а в то же время продолжал служить в русском университете; такой взгляд на русских у него был не только на гистологов, но вообще на всех русских. И почему бы ему, такому почитателю талантов немцев не жить в Германии, а уж если это невозможно, так почему бы ему не позаботиться как профессору русского университета о том, чтобы и в России развивалась и двигалась наука или создавалась насколько это возможно. Ему вероятно было известно, что если профессор в 1/2 года прочитает с кафедры лишь 3 часа, так это не дает особенно больших знаний его слушателям и вряд ли подвинет их на разработку этой науки. Да и что могли дать существенно его лекции, когда иной раз они касались не гистологии, а общественных вопросов, например отношения газеты “Москов-ские ведомости” к тому или иному политическому взгляду. Обыкновенно он очень рано оканчивал свои лекции и в марте уже уезжал за границу, особенно куда-нибудь на берег Средиземного моря, где, говорят, он занимался преподаванием устройства электрического органа у скатов. Удалось ли ему это преподавание и к каким выводам он пришел - я не знаю. По моему мнению, он как профессор был вовсе не так знаменит и не на столько выдающийся ученый, как об этом толковали поклонники (Снегирев), между прочим такие же пьяницы, как и он сам. На основании всего этого я нахожу, что он был не только бесполезный для университета профессор как учитель, но даже вредный, потому что занимал кафедру важнейшей науки и почти ничему не научил; всякий другой на его месте принес бы гораздо больше пользы. Он и умер оттого, что в пьяном виде упал с лестницы и разбился. Похоронен он в Даниловском монастыре и на чугунном памятнике его сделано выпуклое изображение микроскопа. Во время практических занятий, как я сказал уже, он оставался в своем кабинете, а если выходил из него иногда, так об этом узнавали все, потому что выход свой он сопровождал самой невозможной площадной бранью, отно-сившейся иногда неизвестно к кому, а чаще по адресу его ассистентов Дювернуа и Шнейдера. Для нас было непонятно, как эти люди могли выносить такое обращение с ними. Были и в то время самодуры, были и раньше (например Овер и Захарьин), но все же они не доходили до таких пределов и не делали такие пропуски в занятиях со студентами, стало быть были полезны по мере их умственных сил и способностей. Про него говорили, что он умен, но и это мнение основывалось на том, что с ним никто не желал вступать в диспут, так как с первых же слов на него сыпалось из уст А. И. Бабухина целый град нетерпимых ругательств. Читал он физиологию по руководству Дондерса, почти из слова в слово, что мог сделать всякий, самый захудалый преподаватель. Какая же тут была его заслуга? Его поклонники говорили, будто он составил это имя в гистологии своими работами. Но какие же это работы? Мы, что-то их не знаем. Знаем только, что была его статья о распределении (гистологическом) обонятельного нерва, помещенная в одном из руководств по гистологии какого-то немецкого профессора; руководство это было в форме сборника, а других статей его, не только писанных им, но даже и редактированных им, не было. Не вышло за все время его профессуры, кажется ни одной диссертации по гистологии, которой он бы руководил, кроме диссертации Зернова о строении хрусталика. На втором курсе нам читал общую патологию Иван Федорович Клейн, бывший, впоследствии много лет бессменным деканом медицинского факультета. Тогда он был еще очень молод. Чтение лекций происходило в очень печальной обста-новке, в деревянном здании анатомического театра на заднем дворе Ново-Екатерининской больницы. Теперь подобное здание может еще встретиться где-нибудь в захудалом уездном городке, да и то, вряд ли, а оно существовало в Москве вплоть до конца ХIХ-го столетия. Это было старое деревянное здание, прогнившее по углам, совершенно холодное, отапливалось лишь одним камином, перед которым иногда клали труп, подлежащий вскрытию и грели воду; в одной половине его была аудитория с лавками ярусами направо и налево, а между ними кафедра и тут же секционный стол. Через стены и окна страшно дуло зимой, потому что между бревнами были порядочные щели. В другой половине здания помещался маленький кабинет профессора, входной коридор и очень маленькая квартира служителя фельдшера, на обязанности которого лежала черная работа при вскрытии и уборке трупов вплоть до передачи их в часовню. Все здесь было мизерно, ветхо. Теперь этого здания уже нет, и вместо него поставлен настоящий анатомопатологический театр, вмещающий не одну сотню слушателей. В старом театре не могло поместиться и 60-70 человек. Профессором патологии и патологической анатомии был знаменитый Алексей Иванович Полунин, а при нем прозектором И.Ф. Клейн. Год, когда мы были на втором курсе, вместо Полунина читал общую патологию Иван Федорович, так что мы прошли весь факультет и не слушали его обязательно потому, что и на 5-м курсе мы имели дело опять с Ив. Федоровичем. Так вот этот-то Клейн и читал нам общую патологию. Чтение начиналось аккуратно в 8 часов утра, т. е. в зимнее время еще до восхода солнца. К этому сроку мы все бывали на своем месте. Читал он не спеша, плавно, ясно, отчетливо и за ним можно было записать почти все дословно. Чтения свои он дополнял чертежами, которые делал на доске очень хорошо разноцветными мелками и демонстрацией некоторых препаратов. Если кто хотел поучиться Патологической анатомии - тому стоило только почаще бывать на работах у него. Не даром же вышли из его школы три профессора Патологии в Московском университете: 1) Фохт Ал. Богданович, наш же сотоварищ по курсу, 2) Шервинский Василий Дм., впоследствии перешедший на клиническую кафедру, как более прибыльную и 3) Мих. Никиф. Никифоров, руководство которого переведено на немецкий и французский языки и рекомендовалось для студентов и врачей в Швейцарских университетах. А прозекторы во всех больницах в Москве - ведь тоже ученики Ивана Федоровича. Это была одухотворенная учащая машина, которая никогда не ослабевала, не портилась, действовала круглый год, потому что и летом находила себе слушателей в лице приватно зани-мавшихся у него. И все то, что он делал для посторонних лиц - делал так же отчетливо и для студентов и, конечно, без всякого вознаграждения, а потому и был очень беден: мы часто видали его в таких дырявых сапогах, что нам было просто жалко его; семья у него была тогда большая, а жалованье он получал что-то очень мало. С нами он занят был от 8 до 10 часов ежедневно, а с 10 до 12 присутствовал при лекциях Полунина. Носились между нами слухи, что он, будучи на 5-ом курсе, упорно занимался в акушерской клинике и готовился стать акушером и потому никогда не посещал лекций Полунина. Последний (это было в его молодости) не мог простить ему эту небрежность и на экзамене поставил ему единицу, иначе говоря оставил на второй год. Это до такой степени подействовало на Клейна, что он бросил акушерство и всецело отдался патологической анатомии и настолько преуспел в ней, что при окончании курса, через год стало быть, получил от Полунина приглашение быть у него прозектором, что он и сделал. Невольно подумаешь, зная это, каким бы выдающимся акушером мог он стать, если бы не помешал ему Полунин. Другой профессор на 2-ом курсе, читавший органическую химию, формацию и фармакологию был Генр. Ант. Гивартовский, участник спичечной фабрики Газена и Митчинсона и директор фабрики изготовления стеариновых свечей Невского Товари-щества. Кажется это был единственный профессор в Москве из иудеев, но относившийся более чем легко к своему иудейству и легко расставшийся с ним для получения кафедры. Его Бог был теперь промышленность какой он полагал теперь все свои химические знания. Он читал без пропусков, но и без увлечения, всегда указывал чем то или другое соединение химическое может быть полезным и что из него можно сделать по числу применений впоследствии. Это была своего рода химия техническая. Это был очень образованный, деликатный, весьма доступный человек, отзывчивый на все доброе и благодаря его обширному знакомству, оказывавший много протекций. Благодаря ему и моя заграничная командировка устроилась довольно легко, а потом и поступление на службу в Павловскую больницу. Лекции Бабухина, Гивортовского, Клейна и анатомические занятия анатомией нормальной - сдача препаратов прозектору Никитину - исчерпывали все наше время второго курса. Тут не произошло ничего особенного, что можно было бы вспомнить, но произошло с старшим третьим курсом. Это было очень печальное событие - самоубийство молодого многообещающего профессора Зайковского. К этому воспоминанию и перехожу теперь. Осенью 1866 года возвратился из заграницы молодой профессор Зайковский, подготовлявшийся там для занятия кафедры врачебной диагностики. Он был родственником профессору Любимову, а отец его тоже каким-то образом принадлежал университету, кажется был субинспектором, но по какому-то случаю должен был покинуть службу. Высшие власти университета в лице ректора Баршева и попечителя помнили вину отца и кажется переносили ее и на сына. Читал он довольно увлекательно, но необычайно быстро, настолько быстро, что никто не мог записать за ним. Руководства по врачебной диагностике тогда еще не было и слушатели третьего курса просили его рекомендовать им какое-нибудь руководство хотя бы на иностранном языке, но он отказал им, говоря что таких сборников или руководства еще нет, и советовал вслушиваться повнимательнее в то, что он говорит, из буквы в букву. Эти последние слова и раздражили студентов. Они решили проучить его и когда на следующий день собрались на лекцию, решили уйти совсем и ушли. Когда явился читать Зайковский аудитория была пуста и субинспектор заявил ему, что студенты были и ушли. Как подействовало это на него неизвестно, но он все же не терял надежды, что отношения его со студентами улучшаться, готовился к следующей лекции, но и на эту лекцию студенты не пришли. Это по-видимому, утвердило его в той мысли, что добрые отношения его со студентами окончательно порваны и он решил отравиться, что и сделал в своем кабинете близ аудитории, приготовляясь к следующей лекции. Я был при вскрытии его трупа, которое со слезами на глазах производил сам профессор Судебной медицины Д.Е. Мин. Это грустное событие произвело на многих стариков профессоров удручающее впечптление. Например, анатом Соколов, когда ему рассказывали о смерти Зайковского, расплакался и рассказал, как он выразился, как травили его диссертацией, что не пропустили его и первую и вторую работу и как он говорил: писал раз - сшибли, два - сшибли. Писал три, и едва пропустили, и то через полгода после представления работы. А на диспуте - он разбил все возражения другой стороны, и профессор, о котором речь будет впереди, не мог дочитать свою лекцию теоретической хирургии и со слезами в голосе укорял студентов 3-его курса, которым он читал о том, что они довели такого человека до смерти, избравши самое жестокое орудие для своей борьбы с учителем: орудие игнорирования... Все на факультете ходили какие-то придавленные, пришибленные, не было того оживления, которое бывает перед экзаменами. Дело было ранней весной. После смерти Зайковского кафедра его долго не замеща-лась и чтение диагностики поручалось временно то тому, то другому. Когда я окончил уже курс, кафедра была еще свободна. Только впоследствии занял ее новый профессор Черинов. Экзамены с 2-го курса на третий прошли своим порядком, в это время не произошло ничего такого, что стоило бы описывать. Материальное положение мое в это время значительно улучшилось благодаря тому, что с декабря 1866 года я получал казенную стипендию 200 руб. в год, т.е. 16 руб. 66коп. в месяц и кроме того я имел урок на Бол. Якиманке у купца Пащенкова-Тряпкина, бывал у него три раза в неделю по два часа, получал за это по 2 руб. за урок, т.е. 6 руб. в неделю. Стало быть, всего я получал сорок и даже иногда больше 50-и руб. в месяц. Эта сумма почтенная, давшая мне возможность одеться, обуться и вообще оставить заботу о пропитании. Теперь я уже перестал питаться колбасой и пеклеванным хлебом, а позволял себе иногда заходить обедать или ужинать в трактир Барсова на углу Театральной площади. Хотя я усердно старался обучать своего ученика Пащен-кова и подготовить его к поступлению в 6-ой класс гимназии, как говорили его родители при заключении со мною условий, но это желание их оказалось совершенно не доступным, о чем я сообщил отцу ученика - через месяц после начала занятий, прибавивши, что хорошо будет, если он попадет в 4-й класс. Родители неохотно согласились с этим, а через месяц я убедился в том, что и через год он не попадет дальше второго класса. Этот молодой человек, лишь на два года моложе меня, был если не идиот, то значительно отставший в умственном отношении малый. Как мог произойти на свет Божий такой человек - не понимаю. Отец его был довольно умный человек, по тогдашнему купечеству, даже передовой, вел крупную торговлю и в Москве и в Харькове, где у него был свой пассаж, подаренный впоследствии им городу или университету (точно не знаю). Женат он был на бывшей институтке, постоянно старавшейся говорить по-французски. При Коле (моем ученике) постоянно находился гувернер, швейцарец, который должен был говорить с ним по-французски, и хотя был у них более года, Коля не мог запомнить ни одного французского слова, а о немецком и говорить нечего. Как ни бился я с ним по поводу таблицы умножения, одолеть ее он не мог. Отец его хорошо понимал, что за детище такое растет у него и только с сокрушенным сердцем поглядывал на него. Это было единственное детище в семье и отец часто подумывал о том, куда пойдет его состояние. А состояние это надо было считать миллионами, принимая во внимание и московскую торговлю, и харьковскую, и его пассажи. Довольно того, что нижний этаж дома, в котором жило это почтенное семейство, занято было конторой, в которой работала масса конторщиков. От меня требовалось, как от репетитора, непременное условие, чтобы уроки давались непременно утром от 9-и до 11-и часов на том основании, что утром дитя лучше понимает и, хотя для меня это было очень неудобно, но ввиду стесненного моего материального положения, я должен был согласиться с отцом и выгадал себе лишь один субботний день, в который урок был вечером, в 5-ом часу, в действительности он продолжался всего лишь один час, потому что, как только начинали звонить ко всенощной в 6 часов, мой Коля делался сам не свой, не слушал того, что я ему внушал или спрашивал его: все время беспокоился, ерзал на стуле, заглядывал в окна, вскакивал с места, вообще делался невозможным и входившая мать просила урок окончить и уводила его в церковь, которая была на противоположной улице. Стало быть, этот вечерний урок оплачивался двумя рублями за один час. Родители относились к своему сынку довольно снисходительно: наказание ему полагалось лишь в исключительных случаях и состояло в том, что ему делался выговор и его сажали на стул. Я был свидетелем последнего рода наказания и придя давать урок, застал Колю сидящим на стуле среди комнаты, причем нога его была привязана ниткой к ножке стула; Коля ревел густым басом. Это мать наказала его за то, что у него проявились недетские наклонности, и он пребольно ущипнул горничную, настолько сильно, что она взвизгнула на весь дом и пожаловалась матери его. По временам они ходили в театр, брали ложу и приглашали меня с собой, а чаще я получал по такому случаю письмо, написанное Колей, всегда начинавшееся словами: “Милостивый государь господин студент Иван Ильич Курбатов”. Далее излагалась сущность письма. В театре он редко смотрел на сцену, а все косился на большой узел со сластями, который привозился из дома, а после первого же действия приходил в необычайный восторг, когда этот узел развязывался. Можно было подумать, что это добро редко давалось ему, а между тем мать его говорила мне, что она дает ему конфеты ежедневно около фунта. Промаявшись с ним полтора года, наконец, бросил, ничему не научивши. Я передал его своему приятелю Пав. Ник. Надеждину. И этот не добился ничего. О поступлении его в гимназию уже не было и речи, потому что он оброс бородой, а во второй класс таких не принимают, а дальше он поступить не мог. Впоследствии мне передавали учителя с Якиманки, знавшие семейство Пащенковых, что Колю женили на какой-то небогатой девице, чтобы она чувствовала, что ей делают благодеяние. Но жена его не могла вынести такого мужа и в скором времени ушла от него. Я так много говорю об нем потому, что он хотя и был мне очень полезен, но отнимал слишком много времени у меня. Вообще мои ученики в Москве были очень неудачны; стоит вспомнить Вас. Вас. Васильева, он же князь Оболенский, который, однако же, окончил свою жизнь в должности Московского Вице-Губернатора 80-х годов. Тогда это было возможно. Говорили, что будто бы при назначении его на это место имел большое влияние московский генерал-губернатор кн. Вл. Андр. Долгоруков, который просидел в этой должности 25 лет и под старость считал безразличным, кто бы ни занимал какую-либо высокую должность, лишь бы все было тихо и в обществе не проявлялось каких-либо экстравагантных течений. Я сказал, что мне неудобно было продолжать давать уроки у Пащенкова, кроме его малоумия еще и потому, что эти уроки должны были быть утренними, от 9 до 11 час., а в это же время читались лекции в университете, которые я должен был пропускать, что, конечно, отзывалось на понимании следующих лекций, на которых я мог быть. Все лекции 3-ему курсу читались в Клиниках на Рождественке, в том здании, которое теперь занято Строгановским училищем рисования. На переход сюда от Калужских ворот нужно было потратить не менее 45 минут, а ехать на извозчике было дорого, стоило копеек 40. Только лишь одна фармакология читалась в старом здании университета, остальные же все - в Клинической акушерской аудитории. Фармакологию читал проф. Соколовский; он был из духовного звания; раньше читал ту же науку в Казани и там своим нигилизмом, даже внедренным им в науку, смутил весь факультет, почему от Министра народного просвещения был туда послан особый расследователь И. Д. Делянов, который пришел к заключению, что пока Соколовский находится в Казани, спокойствия там не будет; так и доложил он министру. Конечно, Соколовский был убран, причислили его к министерству, и он что-то долго прожил в Петербурге без дела, а потом поступил на освободившуюся кафедру в Москву. Читал он очень хорошо, внушительно, но о каком бы лекарственном веществе он ни говорил, оказывалось, оно очень похожим по своему действию чуть ли не со всеми другими, по крайней мере по влиянию на сердце; если пульс не учащался тотчас после приема его, то неизбежно это наступало через некоторый, но большей частью короткий срок. Делил он все средства на спино-мозговые, спино-узловые, головно-мозговые и еще какие-то. Различие в действии почти не существовало. Но чем он особенно утомлял слуша-телей, так это тем, что приводил массу имен и русских и иностранных авторов, не давая никаких объяснений - почему они приходили в своих исследованиях к совершенно противо-положным выводам; почему, например, д-р Маев говорит, что наперстянка (digitalis) усиливает деятельность сердца, а доктор Подкопаев - ослабляет ее, а мы, говорит, видим в своей лабора-тории, что иногда у одних собак сердцебиение значительно учащалось, а потом падало, у других же выходило обратное. Вот и пойми тут, когда же нужно и когда не нужно давать дигиталис. Он массу статей писал по своей науке, издавал даже “ Труды фармакологической лаборатории Моск. университета”, писал и издавал “Курс фармакодинамики” и добавления к нему. Но я по опыту скажу: избави Бог всякого читать эту книгу, если он захочет понять, что-нибудь о действии какого-нибудь довольно распространенного, ходячего лекарства. Он запомнит, может быть, только то, какой его вкус или запах, а к концу страницы опять станет в тупик. По окончании курса он в своем напутственном слове к будущим врачам сказал: если вам впоследствии в вашей лечебной деятельности придется разговаривать с коллегами, которые скажут, что был у меня или у нас такой-то больной, я (или мы) лечили его тем-то и тем-то, и он выздоровел, знайте, что говорящий так ошибается; нужно сказать, по основной современной науке: чем лечил такого-то больного, тем-то и тем-то и, несмотря на все это, он выздоровел. По выходе в отставку уже заслуженным профессором он уехал на родину в Казань и открыл там спичечную фабрику по примеру Гивартовского, но она не пошла у него. Акушерство и женские болезни читал на 3-м курсе и вел практические занятия Вл. Ив. Кох, родом из Митавы, блестящий профессор не только медицинского факультета, но и всего Совета университета, переведенный в Москву из Дерпта в 40-х годах Министром Уваровым, который задался мыслью создать из Московского университета истинный рассадник науки. Он же назначил в Москву и известнейшего во всей России историка Тимофея Николаевича Грановского и др. Вл. Ив. Кох являлся всегда на лекцию без малейшего опоздания, совершенно точно, по-немецки; всегда или в форменном фраке или в черном сюртуке, тщательно вычищенным, выбритым, остриженным ежиком, хотя тогда никто так не стригся; на нем не было никаких украшений вроде золотых перстней или цепочек, вносил он с собою какую-то особую душистую атмосферу из весьма приятных и тонких духов. Своим видом он напоминал какого-нибудь римского сенатора, был изящен во всех своих движениях и манерах настолько, что даже и семинаристы заглядывались на него, любовались им и говорили, что красив. А это уже значило многое, если похвалил семинарист, а не обругал. Говорил Вл. Ив. невысоким баритоном, рокотал, как выражались некоторые из нас. Речь у него лилась без запинки, без каких-либо сравнений или уподоблений; определения его были всегда точны, понятны. Начал он свою лекцию с того, что сказал, что ввиду того, что в нынешнем году мы начинаем наши занятия позже, на неделю, поэтому без всяких вступлений о значении акушерства перейдем к делу. Таз женщины состоит из следующих костей и т. д. и т.п. Он никогда по-видимому, не спешил, но никогда и не терял времени напрасно; он после звонка оставался в аудитории лишь одну-две минуты и с изящным наклонением головы удалялся из нее. Ездил он всегда на паре гнедых отличных лошадей, запряженных в изящный экипаж, и все у него, и кучер, и лошади, и экипаж носило яркие следы изящества и знание себе цены. На практических занятиях в акушерской Клинике он был такой же, как и на теоретических лекциях, только тут он иногда опаздывал вследствие того, что акушерки не успевали вовремя с кофе, которое они ему готовили, и которое он выпивал в промежуток времени между теоретической лекцией и практическими занятиями. Говорили, что и в частной практике он всегда был такой же, как на лекциях. Когда много лет спустя по окончании курса, я читал роман Сенкевича “Qvo vadis<….>”, в котором описывается патриций Петроний, я невольно вспоминал Вл. Ивановича. Замечательно то, как он сам говорил, что за все время своей 35-ти летней службы в университете он ни разу не пропустил ни одной лекции по болезни и вообще никогда не болел, и умер он утром в постели, успевши выкурить лишь половину папиросы, а другая осталась между пальцами. Ввиду всех его таких качеств и общественного положения становится совершенно непонятным, как такой человек мог жениться на необычайно глупой, вздорной бабе, жена была м-м Собко, у которой был сынок, вылитый Koto, только в миниатюре. Совершенную противоположность Коху представляет профессор Теоретической хирургии или хирургической патоло-гии Иван Петрович Матюшенков или по-просту Матюк. Описать его будет трудновато из-за многих своеобразностей его особы. Представьте себе, читающий эти строки, человека лет 60-и, с порядочным животом, гладковыбритым лицом, с небольшой сединой, зачесанной, как бы прилизанной назад и за уши, мрачным видом, говорящим грубоватым голосом в нос (гнусаво). Когда он произносил слова: “язва”, “рак”, “костоеда”, то всегда это делалось с какой-то особенной интонацией, от которой особенно чувстви-тельные люди, ощущали себя нехорошо. Читал он всегда по тетрадке, от которой постоянно отрывался для объяснения подробностей или для чертежа рисунков. Его вступительная лекция “ О воспалении” представляла какую-то смесь взглядов из моральных патологов и целлюрной паталогии. Он говорил, что он не совсем согласен с Вирховым (звездой тогдашних целлюр. патологов), который говорил, что воспаление есть усиленное питание, а я (Матюк) говорю, что это ускоренное питание, но в чем состоит тут разница сказать не додумались. Темнота, путаница в изложении у него были невероятные. Для изъяснения какого-нибудь явления, он прибегал к сравнению или уподоблению к вещам совершенно невероятным, например, для того чтобы объяснить почему тупое режущее оружие, например тупой нож, сабля наносят рану со рваными краями он говорил, что если возьмешь, например, топор и положишь его под микроскоп, то увидишь, что лезвие его зубчатое, похожее на пилу, а чем острее нож, тем он меньше на пилу похож, стало быть не рвет ткани. Иногда он любил похвастаться своим знакомством с выдающимися представителями западной науки и рассказывал случай бывший с ним в Берлине в лаборатории Вирхова:” Я, Вирхов и другие знаменитости, занимаемся микроскопом, каждый своим делом. Я исследовал тогда предстательную железу (Prostato), которая меня тогда очень интересовала и вдруг вижу в ней гладкие мышечные волокна. Вот тебе на. Я и говорю: Вирхов, а Вирхов. Что, говорит, тебе Иван Петрович? Да ты, душа человек, глянь сам сюда. Что я нашел то. А что, говорит он? Да посмотри. Он посмотрел и говорит: да ведь это ты Prostatis смотришь? Ее самую и гладкие мышечные волокна в ней открыл. Да. Ну , молодец. И что бы вы думали, матушки мои, говорит Иван Петрович, обращаясь к целой аудитории, пробыл я после того недолго в Германии, приезжаю в Москву, читаю архив Вирхова и что же вижу? Вирхов описывает, как он открыл в предстательной железе гладкие мышечные волокна. Вот ведь какая штука! Не написал я тогда же ни слова о своем открытии, а только указал на него другим, другие-то и воспользовались моим трудом. Так вот и советую Вам, матушки мои, на будущее время, если кто-нибудь из Вас сделает какое-нибудь изобретение или открытие, не молчать об этом, а тот час же написать хотя бы в самых коротких словах: вот, мол, такой-то (имя его) в таком-то месте и тогда-то сделал такое-то открытие; подробности и описание последуют. А когда заявление Ваше будет напечатано, тогда и говори о нем, иначе честь открытия всегда будет принадлежать другому, а не тебе.” Матюшенков также, как и другие старики профессора, очень не любил тех, которые прямо со студенческой скамьи держали экзамен доктора. Это право имели те, которые при переходе со второго или даже и первого курса на экзамене получили по вспомогательным предметам (стало быть, и химии) по 5. Это правило было внесено и в устав. Старики обыкновенно говорили, каждый, конечно по своему, а Ив. Петр. наиболее часто: Дали тебе хлеб, ну и ешь его. А ты больно скоро пирожка захотел. Ишь, выскочка какой. Нет, ты сперва похлопочи в больницах, поработай для помощи страждущим и когда окажешься лучше других, хлопочи, чтобы факультет признал тебя наилучшим. После такой вступительной речи, он все же заканчивал ее словами: ну, да уж Бог с тобой, выскочка, ставлю тебе “удовлетворительно”, может и в самом деле из тебя выйдет что-нибудь порядочное. Вспоминая теперь его. я не могу припомнить, что бы он мстил кому-нибудь, придирался или как-нибудь вел себя предосудительно, как врач или профессор-сотоварищ. Он был груб, внушал своим видом нерасположение к себе, готов был в каждую минуту вскипеть гневом, особенно, если видел какую-нибудь несправедливость, совершаемую врачом или профессором. В университетском Совете его боялись такие лица, как физик Любимов или Дмитриев. Однажды в общем университетском Совете обсуждался какой-то вопрос о довольно стеснительной мере для студентов, которую хотел провести ректор Баршев и об уменьшении прав Совета. Меру эту поддерживали некоторые, особенно физик Любимов. Матюшенков долго слушал его, все молчал, а потом не вытерпел и, ударяя кулаком по столу, воскликнул: “Да замолчи ты, щенок, не визжи.” И тот замолчал, но за него вступился профессор финансового права Дмитриев, очень напоминавший тургеневского Кирсанова (“Отцы и дети”) и, обращаясь к председателю, сказал: “Я должен указать Совету, что профессор Матюшенков употребляет непарламентские выражения, прошу обратить на это внимание”. Но Матюшенков и тут не остался в долгу и уже прямо Дмитриеву брякнул: “Ты что еще лезешь, зас...ц!”. Наступило всеобщее молчание, и мера ректора не прошла, потому что все хорошо поняли, что в присутствии такого сочлена, как Матюк, никакая неправда не пройдет. Несколько лет спустя после окончания курса, когда я служил уже в клиниках, я был свидетелем, как в конторе клиник, в присутствии письмоводителя и писца этот же Ив. Петрович отчитывал сидевшего тут декана Медицинского факультета Полунина за то, что он каким-то образом ронял свое профессорское достоинство, унижался перед попечителем учебного округа князем Мещерским. Полунин был уже больной, ходил очень плохо, а в описываемом случае сидел, а Матюк ходил перед ним и все повторял одно и тоже на разные манеры:” я говорю тебе всегда и теперь скажу, что ты подхалим, низкопоклонник, холуй, расшаркиваешься перед Мещерским только потому, что он князь, а забываешь, что ты-то сам, ведь профессор. Ведь ты говорил ему как декан, а спросил ли ты мое мнение ранее, чем говорить с попечителем? Я разве уполномочил тебя говорить за меня так? Ах, ты, холуй, холуй.” Полунин несколько раз пытался оставить его, ссылаясь на то, что они здесь не одни, что есть тут и посторонние, которые слышат все, что он говорит. Но не тут то было. Удержать Ивана Петровича было невозможно; он все повторял свое: “холуй и низкопоклонник. Тебе бы за это нужно не на кафедре сидеть, а за барином тарелки лизать. Дрянной ты человек. “Помилуйте Иван Петрович, воскликнул Полунин, - ведь я тайный советник, а Вы браните меня”. “А мне что до того, что ты тайный советник? Я хорошо вижу. что ты подхалим и при всех это скажу, пусть все это знают, каков ты гусь и какая тебе цена, холуй этакий.” На этом они и расстались. В частной жизни он был такой же честный, грубый, но отзывчивый на все доброе, вполне справедливый, никогда никого не обижавший напрасно, любил молодежь, прощал ей некоторые невинные выходки и промахи и охотно помогал во всем студентам своим советом, если видел в них не пустозвонов, а дельных людей. Когда ему сообщили о самоубийстве проф. Зайковского, во время лекции, он даже расплакался, и это были искренние слезы, а не рисовка. Жил Матюшков на Разгуляе в своем довольно оригиналь-ном доме, напоминающим несколько палаты бояр доброго старого времени; дом этот был небольшой, каменный, сохранивший свой первоначальный вид и через 50 лет после смерти его первона-чального владельца. При доме было особое помещение для гон-чих и борзых собак, так как Иван Петрович был завзятый лю-битель до псовой охоты. Других профессоров, читавших нам на 3-м курсе, я не называю, так как они не были ни выдающимися лекторами, ни какими либо оригинальными личностями, а люди, как боль-шинство людей, большинство профессоров. В каникулярное время с третьего на четвертый курс я был приглашен репетитором Петру Абрамовичу Хвощинскому для занятий с его сыном Абрамом, юношей лет 16-17, подготовляв-шимся к держанию экзамена при гимназии экстерном. Этот юноша был полной противоположностью моим Московским ученикам, он обладал вполне усвоенными познаниями почти всего гимназического курса, особенно по математике, так как ему давал уроки по этому предмету один известнейший учитель московских гимназий Д. Назаров. Заниматься с ним легко и интересно, но мы большую часть дня проводили или в безделье или в прогулках. Жили мы на собственной даче Хвощинского при деревне Власихе близ станции Одинцово по Смоленской шоссейной дороге, теперешняя Александровская железная дорога тогда еще не существовала. Это было красивое место, довольно большое, целое имение; тут помимо усадьбы с роскошным барским деревянным домом были и все постройки для домашнего обихода, но не сельско-хозяйственные, потому что собственно сельского хозяйства там не было, хотя и могло бы быть; при усадьбе был огромный пруд с массой рыбы, особенно окуней, но водились и крупные щуки, одна из которых порядочно поранила мне руку в то время, когда я тащил ее из воды, для удобства замотавши леску на руку, когда я готов был быстрым движением руки выкинуть ее на берег, она предупредила мое движение и так рванулась назад, что я едва устоял на ногах и должен был выпустить удочку. Поплавок, конечно. остался на удочке и по нему дня через два вытащили рыбину и поймали, это была щука около одного аршина длиной. Окуней в пруде было невероятное количество; другой рыбы, кажется, не было, а если бы и завелась какая-нибудь, так ее поели бы и окуни и щуки, одинаково хищные. В имении был большой лес, преимущественно хвойный, в который я часто уходил один. Потом это имение перешло к другому владельцу, кажется, Boray. Теперь оно отстоит верстах в 5-6 от Юдинской платформы железной дороги. Тогда оно считалось одним из красивейших мест Звенигородского уезда, отличавшегося вообще красивыми местами и почти сплошь принадлежавшими крупным помещикам, которые, не желая на летнее время забираться в отдаленные имения свои, жили обыкновенно летом здесь и называли свои владения общим именем “подмосковная”. Семейство Хвощинских состояло из него самого, как главы семейства, его жены Елизаветы Николаевны, урожденной Львовой и сына их Абрама. В их семье постоянно жила сестра хозяйки Мария Николаевна Львова, очень некрасивая толстая пожилая девица и часто навещали два брата: Леонид Никол. Львов, полковник, служивший в интендантстве по каким-то особым поручениям, довольно пустой человек, вероятно из армейских офицеров, порядочный хлыщ и брат его, служивший, кажется, в Казенной палате, тоже крупного полета человек. Оба они жили кажется больше на счет самого Хвощинского, чем на свой собственный. Приезжали они обыкновенно вечером, накануне какого-нибудь праздника и оставались ночевать, проводили праздники и на следующее утро уезжали в Москву на приезжавшей за ними тройке с почтовой станции, которая отстояла от имения всего в 6 верстах. На пруду, на берегу стояла очень большая купальня, а около нее лодки с веслами; ими можно было пользоваться во всякое время, и я действительно пользовался. С Москвой было постоянное сообщение, ибо была особая лошадь и человек при ней, который 3 раза в неделю ездил в Москву за провизией и почтой. Хвощинский был почетным мировым судьей Звениго-родского уезда и раз в месяц ездил в город на съезд судей, а однажды мы всей семьей ездили в Звенигород, где я до сих пор не бывал ни разу и был удивлен, что в центре России есть такие красивые места, как Савинский монастырь. Ездили туда в большом тарантасе с сиденьем позади, на четверке лошадей. 29 июня в Петров день (именины самого Хвощинского) был съезд гостей и родственников, между которыми была семья брата Хвощинского Николая Абрамовича; в этой семье, привезенной в нескольких экипажах, было девять дочерей и один сынок, мальчишка лет 11-12 и при нем гувернер, замученное нуждой существо, который, видимо, не мог справиться со своим питомцем и терпел от него немало. Этому Хвощинскому принадлежало тогда великолепное имение, первое по смоленской дороге от Москвы, Давыдково, принадлежащее теперь Фед. Львовичу Кноппу, который сделал из него как бы райский уголок для дачников. Сам же Ник. Абрамович Хвощинский со всеми своими домочадцами переселился, кажется навсегда, в Италию, где проживал постоянно, лишь по временам приезжал в Россию посмотреть на то, что в ней делается. Между гостями я видел отставного генерала Беринга, который во время коронации Александра II был в Москве обер-полицмейстером, а через несколько дней после коронации, по жалбе самому царю на притеснения и взятки, творимые полицией, был уволен от службы. Непонятно, как такие люди, как Хвощинские, могли водить дружбу с подобным человеком. Что Хвощинские были богаты - это видно из того, что кроме этого имения (Власиха), им принадлежал дом в Москве, в котором они постоянно жили, на Воздвиженке, в Малом Воздвиженском переулке, дом на углу Тверской и Охотного ряда, где помещается гостиница “Париж” и дом на углу Маросейки и Златоустинского переулка. Кроме того, были у него и лесное имение в Курской губернии, где велось правильное пользование лесом, что давало немалый доход, было имение в Тамбовской губернии. После смерти Елизаветы Николаевны Хвощинской губернское тамбовское земство получило по завещанию капитал в 200 тыс. рублей на устройство и содержание богадельни и, исполняя волю завещательницы, построило прекрасное здание. Из деревни я возвратился в Москву значительно попол-невшим и поздоровевшим, настолько, что сожители мои Анохин и Надеждин удивлялись тому, насколько я пожирнел. Я привез с собою чистыми деньгами 150 рублей и, кроме того, у меня залежалась стипендия за все время каникул в 50 рублей, стало быть, это был целый капитал. В ознаменование такого события я угостил своих сожителей обедом в ресторане, и все остались довольны. Наступило время занятий в клиниках, главным образом терапевтической и хирургической. Первую вел проф. Гр. Ант. Захарьин, известный московский врач диагност и практик, а вторую хирургическую клинику - уже тогда маститый хирург Вас. А. Басов. В клиниках Захарьина мы очутились как в неведомой стране: мы не знали как подойти к больному, что спросить его, как выслушать его. Тут-то и сказалась наша неподготовленность за отсутствием преподавателя диагностики. Совсем другое дело было бы, если бы не умер профессор Зайковский. Мы не знали даже, как нужно измерять температуру у больного и учились этому делу у ординаторов, а то так и у сиделок (были такие между нами). Видя такую нашу неподготовленность, Захарьин несколько лекций употребил на то, что бы прочесть и демонстрировать перкуссию и аускультацию на подходящих больных. О самодурстве Захарьина ходила масса рассказов. Говорили, между прочим, что он дрессировал своих пациентов, требовал от них безусловного исполнения, не рассказывать свои ощущения, а отвечать лишь кратко на предлагаемые им вопросы и не нарушать ни одним словом, ни одним движением его покой. Начинал же он свои расспросы в строгом порядке, следуя со рта, т.е. каков вид у больного, как он пережевывает пищу, как глотает ее, есть ли у него тошнота, отрыжка, изжога, рвота и т. д. Окончивши расспросы по поводу пищеварения переходил на функции печени, потом нервной системы, наследственности, исследовал особенно внимательно легкие и сердце, походку при закрытых и открытых глазах, чувствительность кожи. Словом делал полное подробное обследование субъекта. Конечно уделялось немало расспросов и на писание, и образ жизни. На каждый вопрос больной должен был давать точный, короткий ответ, вроде - да, нет. Никаких жалоб больного он не выносил и даже иногда кричал на них, что они его раздражают, и больные слушались его, молчали и отвечали односложно, сознавая, что они сидят перед мудрецом, одного слова которого достаточно для того, что бы возвратить им здоровье или продлить жизнь надолго. Но иногда и ему приходилось нарываться на таких лиц, которые не давали ему спуска и в свою очередь требовали от него, чтобы и он не раздражал их. Так было однажды: приехал к нему мой знакомый по Сапожковскому уезду Ал. Вас. Чулков, человек горячий, вспыльчивый и неукротимый в гневе. Захарьин расспрашивал его по-своему, а тот все пытался рассказать ему свои ощущения, перебивал его. Захарьин не выдержал и крикнул на него: “Что Вы все разговариваете о своих ощущениях, Вы меня этим раздражаете”. Не выдержал этого замечания и Чулков и в свою очередь тоже крикнул: “Да с чего Вы вообразили себе, что я приехал к Вам затем, чтобы не раздражать, а успокаивать Вас. Я ищу успокоения себе, а не Вам!” И Захарьин понял, что он зарвался, просил его сесть, успокоиться, и столь ласково и внимательно выслушивал все жалобы больного, будто бы первый раз понял неосновательность своих требований. На лекциях своих он так же обращался с больными. Иногда был не только резок, но даже груб с ними и говорил слушателям, что он учит их как нужно обращаться с больными. Я теперь думаю, что если бы мы следовали его совету и учению, то из нас образовалась бы целая школа сорванцов-самодуров. Отношение его к ординаторам было самое непозволительное: они играли у него жалкую роль и нас удивляло, как такие почтенные люди, как Жуков и Погожев (его ординаторы) могли служить с ним. В других домах и с прислугой обращаются гораздо лучше, чем он обращался с фельдшером, забывая наверное, что они тоже врачи-сотоварищи. Вероятно у него было сильно развито самомнение, это так укоренилось в нем, что он остался таким на всю жизнь. И действительно то, что он выработал в себе, раз усвоил, что выработанный им взгляд верен, он не отступал от него ни на шаг, несмотря ни на что. Когда заболел император Александр III и его пригласили в Петербург и привезли во дворец, он и там вел себя, как настоящий московский самодур времени Островского. Приставленный к больному куратор студент должен был знать в подробности все, что было с больным в течении суток. т. е. что пил, ел, сколько именно, сколько спал, (не спрашивал только о том, какие сны он видел), сколько раз мочился, сколько раз и как его слабило. Эти вопросы нужно было иметь в виду даже и относительно тех больных, у которых функции кишечника или почек были нормальными и не участвовали в болезни. Другое дело при диабете, о котором он толковал нам целый месяц, разбирая больного с Diabetus. Тут анализ суточной мочи производился ежедневно самый полный. Долго разбирал он больного с сыпным тифом. В то же время вышли из печати труды или лекции С. П. Боткина в Петербурге, и там были помещены прекрасные статьи о тифе. Я должен сказать, что лекции Боткина, даже в печати, у меня оставили более глубокое впечатление, чем Захарьевские. Нас, студентов всегда удивляло, когда он находил время при своих многочисленных занятиях следить за текущей медицинской литературой, ведь он и на лекциях своих показывал не раз, что ему доподлинно известно все, что есть нового в медицине. А потом эта тайна, если только это была тайна, разрешилась довольно легко. Оказалось, что у него был подручный молодой врач, вероятно из жидков, знавший новые языки, который должен был прочитывать иностранные медицинские журналы, делать выписки из них тех сведений и новостей, которые имели какое-нибудь отношение к терапевтической клинике и сообщать ему к назначенному сроку. Тогда еще только входило в употреб-ление подкожное впрыскивание, о чем прежде врачи и не слыхивали. Литература о подкожных впрыскиваниях была громадная: много книжек и брошюр об этом способе было напечатано и в Москве, а некоторые даже думали, что со временем все будет идти подкожным способом. Частная практика у Захарьина была громадная, и за нее он объявил цену, а именно - прием у него на дому стоил 25 руб., а в последствии - 50 руб., а приезд к больному в городе - 100 руб., а за городом - по соглашению. Если его приглашал к себе хронический больной, он посылал кого-нибудь из своих ординаторов узнать в чем там дело, а потом ехал и сам. Приезд его обставлялся как-то торжественно, точно кто будто привозил не доктора, а Иверскую икону Божьей матери. Зимой требовалось, чтобы в комнате была определенная температура, чтобы маятники часов не качались, а стало быть и не тикали, особенно в той комнате, в которой лежит больной, чтобы не было слышно детского крика или писка, чтобы не попадались собаки или кошки в комнатах, чтобы не пели птицы в клетках, чтобы ничто не развлекало его внимания. По окончании осмотра больного ему должна быть подана коробка лучших конфет, которые он ел, запивая водой отварной и давал совет, что нужно делать больному. Получивши гонорар он внимательно рассматривал бумажку, как будто желая убедиться в том, что она не фальшивая: вероятно попадал когда-нибудь и на такие, что в Москве вполне возможно. В аристокра-тических домах он показывался редко, а больше практиковал в зажиточном купечестве. К заразным больным он не любил ездить, явно избегая их и даже известен был случай, что он отказался поехать к жене профессора Черминова, жившего по соседству с ним, узнавши, что она больна дифтеритом гортани, что послужило поводом к многочисленным разговорам между врачами. Он очень заботился о том, чтобы не заболеть самому. Благодаря своей дорогой практике он составил себе миллионное состояние и лет за 10-15 до смерти купил себе дом на Кузнецовском мосту, который выходил на Рождественку и Софийку и раньше принадлежал Тарлецкому. Он заплатил за него 2 миллиона рублей; кроме того у него был дом, в котором он жил постоянно, на I-й Мещанской и было имение, дача, или по Николаевской, или по Ярославской железной дороге. У него было много акций Московско-Курской-Рязанской железной дороги, которые он покупал в то время, когда они были по 60 рублей. За приезд в Петербург к Александру III ему императрица уплатила 30 тыс. рублей, чем он остался недоволен и, чтобы показать это - пожертвовал 1/2 миллиона на улучшение и содержание церковно-приходской школы в Саратовской губернии, откуда сам был родом. Отец его был мелкий чиновник в Саратове, женатый на еврейке, родной сестре Московского профессора математики Брашмана, у которого он жил в первые годы студенчества и потом рассорился с ним. Деньги он не держал дома, а отдавал их на текущий счет в контору Юнкера; посредником в его денежных делах был фельдшер Иловайский, много лет исполнявший должность фактора. Умер этот во всем оригинальный человек тоже особенно. В день его смерти, застигнувшей его при полном здоровье, с ним случился обморок. Когда он пришел в сознание, он расспросил, что с ним было и когда его домашние рассказали ему все, чему они были свидетелями, он сказал, что при его возрасте такой обморок довольно опасен (ему было около 70-ти лет) и велел тотчас же позвать к себе нотариуса, чтобы написать духовное завещание. Явившийся нотариус написал завещание, он сам продиктовал его, а потом прочитал, подписали свидетели и когда нотариус уехал, велел пригласить к себе приходского священника, исповедался, причастился, позвал всех, живших в его доме, попрощался со всеми, закрыл глаза и умер. Сперва никто из окружающих его присутствующих не хотел верить тому, что можно так умереть, но поверили тому, когда начал он уже остывать. А говорю здесь очень много о Захарьине потому, что это действительно во многих отношениях оригинальная, свое-образная личность, создавшаяся в Москве и вряд ли могшая развиться и сложиться в каком-нибудь другом культурном центре. Я был знаком с ним как врач, он присылал ко мне некоторых больных, по большей части людей преклонного возраста, предупреждая каждого, что заплатить мне нужно не менее 40 рублей, что ими и исполнялось в точности. Научных трудов после него кажется не осталось, за исключением диссертации и маленькой брошюрки о жизни в городе и деревне, где дается указание на гигиеническую сторону деревенской жизни. Хирургическую клинику, как я уже сказал, вел заслу-женный профессор Вас. Львович Басов. Представьте себе высокую фигуру, одетую всегда в синий форменный фрак, который кажется сросшимся с ним. Гладко выбритый, седой, судя по тому оттенку кудреватых волос, которые обрамляли его затылок, оставляя оголенной всю голову, с золотыми очками на носу, поверх которых он иногда язвительно или ядовито улыбался. Говорил он всегда чистейшим русским языком, требовал от студентов, чтобы они правильно выражались в составленных ими историях болезни, не допускал никаких неточных определений размеров, например, если студент читал, что у больного находится на таком-то месте опухоль величиной с яблоко, он непременно спрашивал: “А какое? китайское или антоновское? Ведь они разной величины”. Если студент говорил, что у больного замечается, например, краснота или опухоль на плече, не обозначая на которм - правом или левом, он, очень хорошо зная на котором именно, раскрывал здоровое и , обращаясь к читающему, говорил: “Господин куратор, Вы меня ввели в заблуждение. На плече у больного я не вижу ничего особенного, здесь все здорово”. И этим самым указывал на то, что нужно было точно обозначить, где именно краснота. Когда я служил уже у него ординатором, через шесть лет по окончании курса, один студент читал перед ним историю болезни и между прочим сказал, что сегодня утром у больного болела нога, а потом прошла. Он, обращаясь ко мне довольно громко, так чтобы слышали все присутствующие, спросил: “Иван Ильич, Вы не заметили, куда прошла нога? На листах для истории болезни хирургической клиники у него была особая графа (Epicrisis), в которой нужно было писать свое замечание, если были наблюдаемы какие-нибудь изменения в течении болезни. Эти Epicrisis`ы были камнем преткновения для многих студентов и нужно было видеть, какое удовольствие выражалось у него в глазах, когда эти заключения писались правильно, видимо, студент понимал дело. Он никогда не возвышал голоса, говоря с ординаторами или студентами, а особенно с больными, даже и в том случае, если студент делал заведомую глупость или обман. Например, один студент не успел написать историю болезни, Басов потребовал больного в аудиторию, а вместе с ним, стало быть, и студента-куратора. Куратор надеясь на свою ловкость и способность говорить, стал подробно читать историю болезни, держа чистый лист бумаги перед глазами, опасаясь перевернуть лист на другую сторону, читал он довольно долго, дочитал до предсказания, но тут что-то запнулся на мгновение. Басов давно уж начал что-то ядовито улыбаться и, в момент запинки студента, встал, подошел к студенту и стал смотреть к нему на бумагу и наконец попросил дать ее ему. Студенту ничего не оставалось как только дать бумагу. Басов взял бумагу, начал рассматривать ее наклоняя голову то направо, то налево, посмотрел и сквозь ее и не найдя на ней ни слова, возвратил ее студенту, говоря: “Вы что-то остановились, я хотел помочь Вам, но не могу, история написана симпатическими чернилами, видимыми лишь Вам одним”. Студент, конечно, был сконфужен, и чтение прекратилось. Такого же свойства он был и раньше, и всякий год выделывал какую-нибудь подобную заметку со студентами, решавшимися на мальчишеские выходки. Особенно в этом отношении отличались жидки и поляки, наглость которых иногда доходила до невероятных пределов, о чем расскажу впоследствии, когда буду говорить о службе моей в Кинешме. Читал он довольно монотонно, вставляя в речь и примеры больных, которых он наблюдал в I-й Градской больнице, где он был главным доктором много лет, и в университетской или, как он выражался Рождественской клинике. Когда я учился, тогда еще не было ничего известно о стрептококках, гнилостных бактериях, о возможности заражения раны нечистыми руками или инструментами; тогда не было и слова “дезинфекция”, инфекция, дренаж и т.п. Тогда еще верили в то, что есть счастливые хирурги и несчастливые, то же как верили и то, что каждый госпиталь обладает своими особенными свойствами и даже проф. Склифосовский написал свою диссер-тацию под заглавием: Hospitalismus, т.е. особые свойства госпиталя, а в Патологии хирургической было отмечено особое хирургическое заболевание “Госпитальный антонов огонь или гангрена”, как один из спутников всякой раны. Все эти спутники раны, которых мы боимся так теперь, бывали и тогда, ну конечно чаще, чем теперь, когда мы научились как нужно бороться с ними и даже предупреждать их появление. Но все же и тогда бывали нередко случаи, что раны заживали без нагноения (per primam intentionem). Уход за раной состоял в ежедневном перевязывании ее, закрывании ее корпией, которую щипали или сами больные, или сиделки, а ни ординатор, ни тем более профессор никогда и не видели материала, из которого она готовилась. Как рана, так и корпия смазывалась разными мазями, которых было много и для применения каждой из них было свое особое указание, на что Басов указывал в своих лекциях. Знал он это отчетливо и требовал того же от нас - студентов. В Совете факультетском и университетском он всегда открыто выражал свое мнение, никогда никого не уговаривал, не старался убедить, зная, что он имеет дело не с малолетками, а с профессорами, а при заключении обсуждений всегда говорил: “Пусть будет так, как угодно факультету”. В делах явно несправедливых он всегда открыто выражал свое мнение. Конечно не в такой грубой форме, как выражался Матюшков, а в мягкой, деликатной. Он первый подписался под тем адресом-письмом, адресованном профессору Любимову в котором выражалось пожелание, чтобы он оставил университет в виду его деятельности, подрывающей самостоятельность Совета и направленной на то, чтобы подчинить ее всецело Министерству. Любимов конечно после такого адреса тотчас уехал в Петербург жаловаться министру, но все же в отставку ушел, а Басов получил от министра выговор. Влияние его в Совете было настолько велико, что если бы он не подписал этот адрес, то пожалуй не подписали бы и многие, а тут стояла его подпись первого, на что в Министерстве обратили особое внимание. В частной жизни это был увлекательный, веселый собеседник, говорун, даже либерал. Он был всегда отзывчив на все доброе, не гнался подобно Захарьину за наживой, не назначал себе какую-либо плату за труд, а довольствовался тем, что платили сами больные. Еще одна черта его деятельности: если его приглашали на консультацию к больному, он спрашивал, состоятельный ли больной или бедный, а если говорили, что бедный, он ехал к нему тотчас же, хотя бы в самый глухой закоулок Москвы; если же наоборот говорили, что больной очень зажиточный или богатый, он всячески откладывал свою поездку. Ввиду всего этого, он будучи более 40 лет профессором университета и около 20-ти лет главным доктором I-й Градской больницы, имея хорошую большую практику в Москве, оставил после себя состояние не превышавшее 80 тыс. руб., которое состояло в аптеке (на Страстной площади против памятника Пушкину) и подмосковной дачи - Жуково, где он разводил землянику. На улице его можно было узнать издали: он ездил всегда на паре лошадей (в дышло) таких старых, что глядя на них становилось жаль, зачем на них ездят; сидел он всегда в глубине экипажа прямо, почти вытянувшись, шляпа - цилиндр старинной формы была всегда сдвинута на затылок, очки почти на конце носа, руки вложены в рукава шинели или шубы и сложены на животе. Роль прислуги у него всегда исполнял какой-нибудь древний старик, взятый из богадельни, одетый в богадельный серый халат, всегда с угрюмым лицом. Застать его дома можно было лишь в назначенное им время, иначе можно было бы приходить к нему несколько раз и все не заставать дома. Мой приятель доктор П. П. Отрадинский рассказывал мне, что однажды летом он приходил к нему несколько раз, чуть ли не целую неделю ежедневно в разное время дня, желая пригласить его на консультацию и все не заставал дома; он потерял терпение и с досадой спросил старика богодельщика, да когда же можно застать дома доктора? А кто же его знает, отвечал старик. Иной раз встанет утром и уйдет из дома, думаешь он пошел бриться или в булочную, а потом глядь, он уехал на дачу, это за 12 верст от Москвы. Вот и жди его. Он был старый холостяк и жил один. Из родных у него был лишь один племянник Вас. Петрович Басов - директор 5-й Московской гимназии, к которому перешло и все его состояние вместе с большой библиотекой по хирургии на русском и иностранных языках, пожертвованной Вас. Петровичем Томскому университету. Я был впоследствии знаком с Вас. Петровичем, лечил его от рака желудка, от которого он и умер, и вместе с ним мы писали положения о получении премии с капитала, пожерт-вованного им в память дяди за лучшее сочинение на тему заданную факультетом по отделу хирургии, причем первая (по очереди) тема должна быть по клинической хирургии, преподавателем которой много лет был покойный, но насколько мне известно до сих пор (1921 год) медицинский факультет не удосужился дать такую тему, а потому и сочинение на нее не было представлено. Так хорошо отнесся факультет к памяти своего сочлена, прослужившего университету 45 лет. 9 октября 1879 года исполнилось четвертое пятилетие его службы в звании заслуженного профессора и в этот день он был избран вновь на пять лет всем Советом университета, причем лишь два голоса были против него. Числа 20 или 21-го декабря он читал свою последнюю лекцию четвертому курсу. Чтение было по поводу литотаний по разным способам (волокон, надлобковая) и до такой степени увлекательное, что по окончании ее студенты наградили его бурными продолжитель-ными аплодисментами, чуть ли не в первый раз в его жизни. Старик был видимо тронут таким прощанием перед рождес-твенскими каникулами, покраснел. глаза его замаслились, стали влажными. Дня через два после того он слег в постель и уже не вставал до конца жизни. К нему допускался лишь племянник его Вас. Петрович, который много просил его пригласить кого-нибудь из врачей, но больной упорно отказывался от них, не принимал никаких лекарств и пил только квас небольшими глотками. Наконец пришла мысль пригласить Ив. Федоровича Клейна, исполнявшего тогда должность декана по какому-то случаю, Клейну сказали в чем дело, просили его придти, поговорить с больным, как бы не зная того, что он болен, о факультетских делах и сказать свое мнение о том, насколько опасно его положение. Старик допустил его к себе, разговаривал, понял вероятно цель прихода Клейна и, когда тот уходил от него, он, прощаясь с ним, пустил вдогонку ему замечание: “дипломат”. Клейн вынес предположение, что у него Pericarditis, и что положение больного очень опасное. Через два дня больной встал, надел свою енотовую шубу и сел к письменному столу. На вопрос племянника - куда он собрался идти? Он отвечал одно и тоже несколько раз: “ Далеко, очень далеко-с. Потом с вами увидимся там. Далеко!” и, сказавши это, сидя в кресле умер. Это было 30-го декабря. Весть о его смерти быстро разлетелась по городу. Я был в это время в Путятине, куда приехал с семьей перед отъездом моим за границу, и 1-го января получил телеграмму от Мих. Ив. Дружинина, извещавшую о смерти Вас. Александровича и, конечно, немедленно выехал в Москву и назавтра был уже на месте. На похоронах его была масса студентов, которые несли его гроб всю дорогу на руках от университета, где его отпевали, на Рождественку и на Ваганьково кладбище, где он и похоронен близ самых рельс Смоленской дороги. Не могу умолчать о том, что когда близилось время к 9-му октября в Московских газетах почти ежедневно помещались телеграммы из Петербурга о том, что тамошний профессор Ник. Вас. Склифосовский сделал с успехом грандиозную операцию, чуть ли не отрезал кому-то голову и вместо нее представил другую. Телеграммы эти писались очевидно с той целью, чтобы подготовить профессоров к выборам Склифосовского в случае, если Басов не будет вновь избран, но так как избрание состоялось телеграммы дальше были не нужны и прекратились, как будто бы Склифосовский перестал оперировать. После смерти Басова Клиника была поручена временно Синицыну, а потом Новацкому и, наконец, был избран Склифосовский. При его избрании немало отреагировали Захарьин и Бабухин, а может быть и еще кто-нибудь. К воспоминанию о Басове, мне придется еще раз вернуться впоследствии, теперь же перехожу к воспоминаниям о других лицах. Офтальмологию в Клиниках читал нам Г. И. Браун, русский немец, проживший всю жизнь в Москве, свободно говоривший по-русски, чересчур правильно и с таким акцентом, что сразу выдавал свое немецкое происхождение. Сам себя он считал большим знатоком русского языка, знал массу русских пословиц, часто говорил их, но не всегда правильно, а потому нередко вызывал улыбки. Например, вместо того, чтобы сказать, что “цыплят по осени считают”, - “Эй, батенька, мой, знай, что цыплят по восемь считают”; или “Бедный Макар, все на шишках валяется”, или еще лучше: “В чужой проход со своим уставом не ходи”, “Чужая брань на воротах не висит”. Как он понимал смысл этой пословицы известно было ему одному. Он был, будучи профессором офтальмологии, в то же время и Главным доктором глазной больницы, где за отсутствием в университете глазной клиники вел практические занятия со студентами 5-го курса. Читал он почти дословно по руководству, им же состав-ленному; в мое студенческое время оно состояло из двух выпус-ков и стоило недорого. Оперативную хирургию с топографической анатомией и практические занятия в антомическом театре при клиниках преподавал Разцветов с Новацким, причем они делили этот обширный предмет пополам так, что один читал учение о переломах и вывихах и малую хирургию, а другой всю остальную часть, т.е. оперативную хирургию, на следующий год они менялись, а когда я был уже на пятом курсе, Новацкий был назначен Главным доктором Ново-Екатерининской больницы и профес-сором Хирургической госпитальной клиники, всю оперативную хирургию читал уже один Ал. Павл. Разцветов. Он происходил из наших рязанцев, из духовных, в юности был очень беден и потому знал по горькому опыту цену деньгам, которым придавал большое значение: он был скуп до невероятия и бережлив. Мне про него рассказывал А. Мат. Макеев (впоследствии профессор акушерства), что во время юности Разцветов был ординатором у профессора Ф.И. Иноземцева, жил стало быть в казенной клинической квартире, в которой стояла казенная, за ветхость забракованная мебель. Прислуживали ему или сиделка из клиник или служитель. Дома он никогда ничего не ел, а лишь иногда пил чай. А питался или у знакомых, или у пациентов, или наконец казенным обедом, который отпускался ему как дежурному. Однажды он заболел и призвал к себе Ал. Матвеевича и обратился к нему с такой просьбой: “ Вот, А. М., я лежу больной, выйти не могу, а вчера у меня собралась тысяча рублей, так вот, пожалуйста, возьмите ее и положите на мое имя в банкирскую контору Юнкера, там у меня счет. Да что Вы так беспокоитесь Ал. Павлович, - говорит Макеев, вот дня через три-четыре выздоровеете, тогда внесете деньги сами. Да как же это так, ведь через 3 дня будет уже 4-е число, а сегодня 1-е, стало быть деньги будут лежать дома без пользы, без приращения. Нет, так нельзя.” И Макеев отнес деньги для приращения их. Он, будучи уже ординарным профессором, не стеснялся занимать место домового управляющего у Тарлецкого ради квартиры и жил в его доме на углу Александровского сада и площади против манежа. Когда наступал срок, по 25-и летней службы, он на завтра же вышел в отставку и купил себе дом в Москве в Кисельном переулке рядом со стеной Рождественского монастыря, чтобы быть поближе к Клиникам, где прошла вся его служба. Он был холостяк, но под старость прельстился красивой еврейкой, женой одного врача, служившего при воспитательном доме, и купил ее за 10 тыс. рублей, обратил в христианство, православие и женился на ней. Отставной муж еврей через год возвратился из заграницы, куда он уехал продавши жену и потребовал от Разцветова еще дать 10 тыс., но тот отказал и еврей - жид удавился. Уже будучи в преклонных летах, он внес обществу испытателей природы 10 тыс. руб., на проценты с которых должна быть выдаваема большая золотая медаль за лучшее сочинение по естествознанию, и все свое состояние по завещанию оставил в пожизненное пользование жене, она не могла его ни продать, ни заложить, а после ее смерти все оно должно было поступить в собственность Медико-филантропического общества, которое построило на них приют для бедных лиц врачебного сословия. Состояние его, после продажи дома равнялось 800 тыс. рублей. У жены был собственный дом в одном из переулков, выходящих на Арбат; она любила драгоценные камни и была убита в Быково во время купания племянником, желавшим получить поскорее богатство тетушки, который, однако же, попался, и был судим. Другой профессор оперативной хирургии был Иван Нико-лаевич Новацкий, родом из Смоленской губернии, неясного происхождения. Он начал службу в Ново-Екатерининской больнице, в хирургическом отделении, где профессором Госпи-тальной клиники был тогда Поль, а когда началась Севасто-польская война, он пристроился там где-то и заведовал особым лазаретом на небольшое количество кроватей и здесь сумел нажить деньги, а по окончании войны, когда Особая комиссия стала разбирать все счета и разбирать документы добрались и до Новацкого и оказалось, что он получал 12 тысяч рублей на несуществующий и не существовавший лазарет. Дело было скверное, грозила большая неприятность и Ив. Николаевич обратился за помощью к своему покровителю профессору Полю, имевшему большие связи с правящими кругами и трех взрослых дочерей девиц, за одной из которых ухаживал Новацкий, сделавший ей даже формальное предложение, которое было принято. Будущему тестю ничего не оставалось, как пустить в ход все свои связи и он пустил, научивши Новацкого на запрос по поводу полученных им 12-ти тыс. такой отзыв: “Я таких денег не получал, и устраивать мне ничего не было нужды, так как на месте моего служения под Севастополем все было устроено, а получил эти деньги, вероятно, тот фельдшер, который служил в то время при мне; он очень хорошо мог сделать мою подпись. Однажды, когда он меня не ожидал, я зашел в комнату, где он сидел, как при моем входе быстро схватил лист бумаги и спрятал его в стол. Я , чувствуя, что здесь есть что-то недоброе потребовал от него, чтобы он показал мне, что он писал. Когда он показал, то я увидел, что весь лист бумаги был исписан моей подписью, причем первые подписи не имели никакого сходства с моей, а последние были так хорошо подделаны под мою, что я не мог сказать, я это писал или не я. Поэтому я думаю, что и расписка в получении 12-ти тыс. рублей, которая имеется в деле, не моя, а его.” Этому отзыву дали веру, дело прекратили, о чем и уведомили Новацкого и Поля. Поль, конечно, поздравил Новацкого и сказал, что теперь можно подумать и о дне свадьбы. Но каково же было его удивление, когда Новацкий чистосердечно заявил ему, что он не чувствует ни малейшего влечения к брачной жизни и поэтому от невесты отказывается. Тут только старик Поль понял с кем имеет дело и назвал неудавшегося зятя подлецом, что тот и скушал. Всю эту историю при мне рассказывал в присутствии нескольких лиц один господин, хорошо знавший и Поля и Новацкого, так как служил при них смотрителем в Ново-Екатерининской больнице. Курс судебной медицины читал Д.Е. Мин, бывший в то же время проректором. Это была должность, заменившая инспектора, которая остается и до сих пор. (Чем это стало лучше, что нет инспектора, а есть проректор - я не знаю, в чем тут разница тоже не знаю). Читал Мин всегда солидно подгото-вившись к лекции, в чтении его всегда была наглядность, иногда даже картинность, как например, в тех случаях, когда он описывал смерть от утомления или замерзания. На 5-ом курсе, когда не бывало вскрытия трупов, он вел с нами судебно-медицинский семинарий, который был им введен. Дело состояло в том, что из книги протоколов вскрытия он давал каждому из нас какой-нибудь протокол и на нем писал те вопросы, которые могут быть предложены судебным следователем по поводу этого протокола. Нужно было написать мотивиро-ванное мнение по поводу этих вопросов. Мнения эти читались на лекции и каждый присутствующий мог делать по поводу их свои замечания или возражения он же лично руководил чтениями как председатель, и, надо отдать ему справедливость - руководил с большим тактом и умением. Эти прения до такой степени нас увлекали, что иногда мы засиживались на них и лекция оканчивалась вместо 3-х часов в 5. Благодаря этим занятиям мы знали судебную медицину хорошо, и я помню ее до сих пор, хотя со времени окончания мною университета прошло уже 52 года. С этих же пор по ходатайству Мина введено правило, что все оканчивающие курс по медицинскому факультету, кроме степени лекаря, стали получать и звание уездного врача, на которое прежде держался особый экзамен. Хорош был Мин на диспутах при защите диссертаций. Помню я, как защищал диссертацию о прободениях барабанной перепонки д-р Лазарев, один из специалистов по ушным и горловым болезням в Москве. Он защищал то положение, что прободение перепонки иногда единственная мера к спасению слуха и даже жизни. Мин ему сделал возражение и спросил его: “А как он смотрит на то, что если во время драки, кто-нибудь ударит по уху так, что разорвется барабанная перепонка. По-Вашему выходит, что это - благодетельная мера, искусственно проводимое прободение, а судебная медицина до сих пор признавала это тяжелым повреждением, и может ли получивший прободение искать и обвинять своего противника в том случае, когда ему, по свойству его болезни, нужно было произвести искусственное прободение? “Лазарев не мог ничего ответить и после долгого молчания только спросил: “А как думаете Вы сами?” На многих лицах появилась улыбка. Д. Е. Мин был британский подданный, был другом Кетчера, начальника врачебного отделения в Москве, о котором говорит и Татьяна Пассек в своих воспоминаниях, и который был известен в Москве, как долго служивший, а особенно потому, как он смеялся (Кетчеровский смех), пожалуй, погромче нашего родственника Алексея Ивановича Поникаровского. Оба они переводили Данте и Шекспира на русский язык.
Каникулы с 4-го на 5-й курс я провел у брата Алексея в Новогородской губернии, где он служил управляющим железо-блочным заводом Балашевых на границе между Устюженским и Белозерским уездами. Чтобы попасть туда из Москвы, нужно было ехать по Николаевской железной дороге до станции Валдайки, а оттуда направо через город Боровичи до г. Устюжны 216 верст на почтовых лошадях; от Устюжины до завода еще 110 верст тоже на лошадях, все время лесом. В Устюжну я доехал с небольшим в сутки, переезжал несколько раз на паромах через многоводные и быстрые реки (Мста, Тверца), коих раньше не видывал, а от Устюжны ехал около 20 часов; всю дорогу меня ели комары, от которых не было спасения, несмотря на то, что я закрывался от них платком, наподобие вуали. Они меня изъели до того, что лицо у меня все распухло и брат и его жена не могли сразу признать меня. Я жил в квартире брата, занимаясь в заводской больнице лечением больных, из которых большинство умирало, так как это все были страшно исто-щенные скорбутики. На этом заводе крепки только кузнецы или, как там называли их, кричники, потому что железо вырабатывалось кричным способом, а остальные ослаблены, часто голодают. Почва там или болотная или каменистая, дающая в самые урожайные годы сам 6-7, а обыкновенно не больше, как сам 4. На распаханных полях такая масса камней булыжника, точно их кто-нибудь насеял нарочно, а иногда попадаются и такой величины, что их нужно опахивать со всех сторон. Здесь мне пришлось видеть и варварский способ обращения с лесом: для пахоти срубаются большие участки леса, более крупные деревья выбираются и вывозятся, а все остальное тут же на месте сжигается, и тогда земля запахивается. Такое поле года три дает урожай, а затем забрасывается и скоро зарастает лесом, преимущественно еловым. Приехал я из Новгородской губернии с женой брата, которая неприменно хотела повидать свою дочь Лидию, жившую у дяди и деда Красноглазовых, в Троицкой улице; ведь брат женился на вдове О.Ф. Красноглазовой, урожденной Вергиной, у которй от первого брака была дочь, стало быть, падчерица моему брату, вышедшая впоследствии замуж за Ник. Ив. Стурма. Ко времени моего приезда в Москву, лекции в универ-ситете уже начались; я скоро разыскал своих сожителей по предыдущему году и поселился вместе с ними в знаменитых Челышах, т. е. гостинице бывшей Челышева на Театральной площади. Теперь эта гостиница значительно переделана, у дома надстроен еще этаж, а по местам и два, и называется “Метрополь” (против Малого театра). Сожителями моими были: Павел Николаевич Надеждин, товарищ по гимназии, почему-то отстав-ший от меня на год в университете и Павел Алексеевич Анохин, впоследствии новохоперский (Воронежской губернии) уездный врач. С ним же я жил будучи на 4-м курсе и на 3-м. В последнем мы жили на углу Столешникова переулка и Большой Дмитровки, в доме Засюцкого, в меблированных комнатах, содержавшихся какой-то женой немца, которая ухаживала за нами, вешала занавески, гардинки и часто жаловалась на неверность своего супруга. Теперь мы поселились во 2-м отделении гостиницы (ход с угла), стало быть, до подъезда Малого театра было не более 50-60 шагов, только через дрогу в № 84. Это был громадный номер в 3-м этаже; в нем была масса мебели, даже три мягких дивана, письменный стол и другие столы, стулья, кровати; они были разделены на четыре части, из которых одна была передняя и умывальня, две спальни и очень большая общая комната; в этой-то последней и было в углу окно, а на другой такое же окно, потому что нижняя часть была заделана соседней крышей. Света было, однако, достаточно - так как нас весь день не было дома, то мы и не нуждались в большом освещении. Зато было здесь тепло, нигде не дуло, а цена летом 18 рублей, а зимой 20 рублей в месяц, т.е. два рубля в месяц на топку печей. Кроме этой платы по договору мы должны были платить прислуге по 1 рублю с человека за чистку сапог и платья, а так же за право послать иногда в лавку или Охотный ряд, который был от нас близко, по другую сторону Театральной площади. Такое географическое положение нашей квартиры служило тому, что к нам часто забегали сотоварищи по курсу, а иногда идущие из театра знакомые заходили покурить или выпить чайку, хорошо зная, что они всегда найдут у нас и то и другое. Потом, когда П.Н. Надеждин уехал в Петербург, с нами стали жить наши же однокурсники И.Ф. Лебедев (впоследствии ялтинский вольно-практикующий врач), владелец санатория Гаспра и Н.А. Ягович-Голосов, московский психиатр впоследствии. Эти новые сожители внесли много оживления в наш номер, к ним приходило много бойкого народа, веселого, читающего, поющего. Часто заходили ко мне мои ближайшие друзья: Иноземцев и Порфирий Порфирьевич Карпов. Скажу о них несколько слов. Александр Петрович Иноземцев - сын врача, до поступления в университет жил постоянно на Кавказе, знал достаточно тамошний край, особенно малороссийское население. Он был единственный у своих родителей и уехал в Москву вместе с нами. Это был прекрасно образованный молодой человек, много читавший, знавший основательно немецкий и французский языки. Он играл на рояле, имел порядочный голос и потому иногда певал. Характера был он самого веселого настолько, что даже мрачный Анохин в присутствии Иноземцева иногда не только улыбался, а даже смеялся. Особенно он хорошо пел хохляцкие песни. Ужасная была судьба его. По окончании курса с правом представить лишь диссертацию, чтобы получить степень доктора медицины, он поступил прозектором к Мину (судебная медицина), который был от него в восхищении. Зимой он женился, через неделю после свадьбы он вскрывал труп судебно-медицинский и поранил себе палец. Этого было достаточно для того, чтобы развилось заражение трупным ядом, развилась септицэмия и через три недели его не стало. Смерть его до такой степени меня поразила, что я, узнавши о ней, несколько дней подряд ходил сам не свой. Погиб молодой, честный, здоровый, многообещающий и работя-щий человек, из-за какой-то неосторожности получивший поверхностную ранку пальца. Горе его родителей, говорили, было неописуемо. Кроме Иноземцева я был в хороших отношениях с П.П. Карповым, очень красивым юношей моих лет, который, однако, к концу курса женился на известной мне особе и имел уже сына. По окончании курса он уехал в Коломну и прожил в ней всю свою покойную, кажется, ничем не возмутимую жизнь. Говорил мне коломенец, что он, овдовевши, начал выпивать, но сам я этого не видал и раньше не замечал у него наклонности к спиртному. Сын его был известным профессором гистологии в Московском университете, на месте Бабухина. Заходил к нам еще нередко мой земляк Василий Павлович Звонарев, следивший за текущей литературой, особенно беллетристикой и сообщавший нам все, что было выдающегося в ней. В это время выходил частями известный роман Гончарова “Обрыв”, и Звонарев с подроб-ностями, из главы в главу, сообщал нам его содержание. Возникли, конечно, разные разговоры по поводу сообщенного, так что у нас был как бы клуб, в котором можно было получить сведения по текущей литературе - научной, медицинской и беллетристической; здесь же можно было получить и сведения о выдающихся событиях из московской жизни. До политики мы не касались, и что делалось в верхах, мы не знали.
Одним из выдающихся событий в Москве была смерть молодой девицы Вишневской. Эту особу знали в Москве многие, как выдающуюся особу. Ей только что минул 21 год; она была замечательно красива, умна, образованна и очень богата. Ее считали самой блестящей невестой в Москве, предсказывали ей такую будущность. Но судьба судила иначе. Она окончила жизнь самоубийством в такой форме, которая и заставила заговорить о себе. Перед смертью, она, как совершеннолетняя была введена во владения доставшимися ей по наследству имениями и домом в Москве. К этому времени она влюбилась в доктора Ельцинского, человека уже немолодого, ему было далеко за 50 лет. Он был более чем некрасив, неуклюж, вдов. Как он относился к ней - не знаю. Но только эта любовь послужила поводом к тому, что барышня покончила собой. Случилось это так. Она уехала из Москвы из квартиры дяди, в которой уже жила давно, так как дядя был ее опекуном и очень любил ее, она знала, что дядя пробудет вне Москвы несколько дней; перед отъездом она оставила письмо на имя дяди и уехала в деревню, где была хорошая усадьба с рекой или прудом, ночевала там в доме, оставила письмо на имя управляющего, взяла большой мешок от тюфяка, пошла в купальню, выбралась из нее на наружную площадку над глубоким местом воды, влезла в мешок, зашила его изнутри нитками и бросилась в воду, стало быть, предупредив всякую возможность движения руками и ногами, т.е. отнявши у себя самой возможность спасения. В письмах она объяснила свой поступок тем, что она очень боится лягушек и не желает, чтобы они полезли на нее даже на мертвую. Теперь конечно ясно, что она была истеричка и действовала как больная, желающая вызвать к себе сочувствие, обратить на себя внимание и обратила.
Осенью, когда мы были на 5-м курсе, на нашем факультете разразилась, так называемая Полунинская история, о которой было много разговоров в университете и в Москве, писалось и в газете, в том числе и “Московских Ведомостях”. Произошла она так. Осенью уехал заграницу профессор Захарьин на целый год, не указавши, кому бы он мог передать преподавание вместо себя. Факультет предлагал вести его клинику молодым профессорам: Черинову, Матчерскому и др., но никто не считал себя достаточно подготовленным к этому делу; тогда взялся профессор Паталогической анатомии Алексей Иванович Полунин, никогда не бывавший в клинике и пользовавшийся весьма ограниченной практикой в городе. Он счел для себя возможным вести клинику даже после Захарьина и повел, но это были не клинические лекции, как говорили его слушатели, а отрывки из патологической анатомии и нечто. Разбирая напр. больного тифом, он говорил, что у больного-то нашего тиф:” Вы мне поверьте, теперь вы этого не знаете, а я то знаю, а вы когда окончите курс, тогда узнаете. Иногда он находил нужным указать слушателям, что он видит у больного указание на то, чтобы сравнить получаемый им Syropus seresos и назначить Syropus rubri ideae, а в чем состоит это указание, умалчивал. Исследования больного не было никакого, ординаторы не имели права помогать студентам делать какие-нибудь объяснения, потому что служба их считалась административной, а не научной, а ассистента не было, и не полагалось. Студенты, видя что научиться они у Полунина ничему не могут, перестали ходить к нему на лекции. Это обидело его, и он пожаловался ректору Баршеву. Этот ханжа и чиновник в душе, вступился за Полунина, приехал сам в клинику, кажется первый раз в жизни, и пошел в аудиторию Полунина в то время, когда должна была читаться там лекция, по пути он встретил лишь одного студента, по несчастью довольно дерзкого и любителя спиртных напитков, по фамилии Лыткин, который шел сверху вниз по лестнице, стало быть, направлялся от Полунина. Баршев спросил его, кто он такой, а тот ответил тоже вопросом: “А Вы кто такой?” - “Я ректор”, ответил Баршев; “а я студент”, - сказал Лыткин. “Если вы 4-го курса, говорит Баршев, так вы должны идти на лекцию профессора Полунина, который теперь читает “.”А я не хочу”. “Так я Вам приказываю” - завизжал Баршев. “Поди ты к такой-то матери” - грубо сказал Лыткин и пошел дальше своей дорогой. “Так помните, же, что вы всю свою жизнь будете раскаиваться за эти слова,” - снова завизжал Барышев и пошел к Полунину, где застал очень мало студентов, человек 5-6 и, стало быть, убедился в основательности жалобы Полунина, похвалил тех, которые там присутствовали. Имел ли он право входить на лекцию и делать комплименты студентам за это хорошее, по его мнению поведение, я не знаю, но, кажется, не имел и все же сделал. На другой день в швейцарской, при входе в клинику, была поставлена конторка, около которой стоял помощник проректора или тогда еще инспектор, а на конторке лежал лист бумаги, перегнутый пополам вдоль, на одной половине листа была сделана надпись “ расписка студентов, желающих слушать проф. Полунина”, а на другой надпись - “расписка студентов не желающих слушать проф. Полунина”. Помощник инспектора предлагал каждому приходящему расписаться на той или другой половине листа и они расписывались и шли дальше своей дорогой. Не пожелавших официально подтвердить свое нежелание было 18 человек, все лучшие студенты. Жидки, полячки и разные бездарности или трусы, каких всегда найдется не мало всюду, все эти дали расписку, что они пойдут к Полунину. Дело выходило уже не домашнее, а открытое, документальное заявление некоторых лишь студентов о своем недовольстве профессором, стал быть это был бунт, а нежелающие к Полунину - бунтари, заговорщики или, как назвал их Баршев, “паршивые овцы”. Дело стало известным всему городу, а затем появилось и сообщение о нем в газетах; особенно грозные статьи по этому поводу писались тогда в “Московских ведомостях”, в которых прямо говорилось, что коварная польская интрига пустила свои корни так далеко, что они проникли даже в клинику, это специальное учебное заведение и направила свое гнусное жало против такого уважаемого профессора и декана медицинского факультета. каким был Алексей Иванович Полунин. Дело разбиралось и рассматривалось в Совете университета, а почему-то не в университетском суде и решено было удалить, т.е. исключить из университета всех подписавших свое нежелание слушать Полунина. Их распределили почему-то, вероятно по степени виновности, на 4 категории, из которой к первой категории отнесены те, которые могут перейти тотчас же в другой университет; ко 2-й, которые исключаются на год, к 3-й, исключаемы на 2 года и к 4-й один Лыткин, который исключается навсегда. Но так как это дело происходило уже в ноябре месяце, а переход из одного университета в другой допускался тогда только до 1-го октября, стало быть, исключение увеличилось еще на год. Не знать это правило не могли писавшие определение об исключении и, стало быть, злоба их была скрыта от глаз большинства читающей публики. Кроме того, трех из исключаемых почему-то послали в Сибирь в разные города под надзор полиции. Между всеми исключенными был и Адриан Алексеевич Крюков, впоследствии профессор офтальмологии в Московском университете, поступивший на кафедру вместо умершего Брауна. Назначенные к ссылке в Сибирь нашли возможность пробраться за границу и поступили в тамошние университеты; один из них, сделавшись врачом, постоянно жил в Швейцарии в Женеве и практиковал там, пользуясь большой известностью. Это был доктор Эльстниц. Другой. скрывшийся за границу - Пирамидов, кажется потом возвратился в Россию, а третий, фамилию которого я забыл, сын богатых родителей, которым принадлежал в Москве громадный дом на Знаменке, против Александровского военного училища (дом во дворе) возвратился в Москву уже седым и оканчивал курс вместе со своим сыном. Это было в 80-х годах. Он был на курсе с нашим незабвенным Егором Ивановичем (Горюн) Поникаровским. Судьбу других исключенных не знаю, кроме Павла Н.Надеждина, который на следующий год поступил в Медико-хирургическую Академию и скоро умер от туберкулеза легких в Тамбове. Как сказал ректор Баршев Лыткину - он не мог нигде устроиться и по милости Каткова, имевшего большое влияние в Министерстве Народного просвещения, отцу его, Лыткина, служившему, кажется, во Владимирской гимназии учителем латинского языка велено было подать в отставку, хотя ему оставалось лишь несколько месяцев до выслуги полной пенсии. Злоба Баршева была удовлетворена. Полунин продолжал читать свои выдержки по Паталогической анатомии по-прежнему, как будто бы ничего не бывало, а потом, как-то однажды даже принес на лекцию и прочитал студентам статью доктора Белоголовова, в которой автор разбирал подробно всю деятельность Полунина как профессора, смешивал его с грязью и находил его виновным во всей этой истории, взявшимся за непосильный для себя труд и тем причинивший не пользу делу, а вред. Полунин читал эту статью, оправдывался перед студентами, находил статью несправедливой, а Белоголового пристрастным. С нами, студентами 5-го курса, наши профессора об этом не говорили и видимо сторожили, чтобы кто-нибудь из нас не спросил бы что-нибудь про это; тогда положение их было бы очень щекотливое. Ведь все они знали, что студенты были правы, что научиться у Полунина, как клинициста они не могли, а высказать это открыто - значило бы оправдать бунтарей, обвинить Совет. В отчете за 1869 год, напечатанном на 12 января 1870 года сказано было, что дел, подлежавших университетскому суду не было, и обо всей этой печальной истории ни слова. Занятия наши на 5 курсе были очень многочисленны. К 6(8) часам утра нужно было быть уже в Ново-Екатериинской больнице, где у каждого из нас было по несколько человек больных, у которых мы были кураторами, вели подробные истории болезни. У меня, например, одновременно было шесть больных в Клинике Новицкого. Это объясняется тем, что нас было на 5 курсе всего около 40 человек, которые делились на две половины; из них одна половина в первое полугодие занималась у Новицкого, а другая у Варвинского (Терапев-тическая госпитальная клиника), а после Рождества обе поло-вины менялись. Занятия в клинике были от 8 до 10 часов; от 10 до 12 часов патологическая анатомия (Клейн); после 12-и часов глазная клиника в глазной больнице или судебная медицинская в Анатомическом театре в университете, переход туда немалый. В то же время, начиная с октября шли занятия оперативной хирургией, а с января практические занятия сменились экзаменом из них, который состоял в том, что нужно было сделать в присутствии профессора 3 операции и из них одну перевязку на сосуде (артерии); операции делались на не трупах. Шли так же практические экзамены по анатомии, по гистологии, по акушерству, по судебной медицине, вообще все практические экзамены, которые необходимо было сдать оканчивающим курсы. Одновременно были так же дежурства на целые сутки в акушерской клинике, присутствие при всех родах в клинике. Эти дежурства были особенно полезны нам, так как прием младенцев происходил всегда под наблюдением ординаторов. Я помню очень хорошо, что однажды я дежурил в акушерской клинике один (а обыкновенно два студента) и за сутки принял 31-го младенца. Мать одного из младенцев упро-сила меня быть крестным отцом ребенка, и, когда я согласился, стали просить и другая, и третья, и потом все - 31 мать. На следующий день я крестил их ребят всех и, стало быть, зараз приобрел 62 кумы. Потом когда об этом стало известно всему курсу, меня стали звать всеобщим кумом. Вообще, на 5-м курсе занятий было так много, что я теперь удивляюсь, как у нас хватало сил на все это. Ведь раньше 4-х часов мы не могли пообедать и оставались целый день без еды. А вечером нужно было идти опять в Екатерининскую больницу - навестить своих больных, смерить им температуру, записать в дневник. Результатом всего этого было то, что я пользуясь всегда хорошим здоровьем (кроме бывших у меня лихорадок) стал ослабевать и дошел до того, что однажды, когда я сидел в своем номере у открытого окна, читая какие-то руководства, испугался петушиного крика, внезапно раздавшегося со двора и испугался настолько, что со мной сделался обморок. Это было в присутствии моих сожителей, которые мне помогли. Да и не один я так ослабел, а все мы ко дню последнего экзамена, выпускного, ослабели и побледнели до того, что смотрели не врачами, а больными, но, благодаря наступившему полному отдыху и молодости, скоро оправились. В последнее полугодие все время у нас было занято с раннего утра и до ночи, у нас не бывало ни одной минуты, чтобы мозг не работал, оставалось лишь время на обед и сон. Зато и сон же этот был крепкий: на одном боку часов 6-7. А один из наших сожителей Николай Алексеевич Голосов проспал двое суток в одном и том же положении без питья и пищи и настолько крепко, что мы на нашем совещании решили насильно разбудить его, и когда он, наконец, проснулся, должны были оттирать ему всю строну тела, на которой он лежал, она у него посинела, ничего не чувствовала, начинался пролежень. Оттерли. Окончили мы курс 30-го мая 1870 года; назавтра получили об этом официальное объявление от декана, в присутствии других профессоров, в том числе и Матюшенкова, который поздравил нас, жал руку, целовался и приговаривал: “Иди, матушка, в жизнь, не ленись, работай на пользу человечеству, помни то обещание, которое ты подписал сейчас” (факультетское обещание). К двум часам мы отправились на наш взаимно-прощальный обед в ресторан Тестова. Все были веселы, говорливы, счастливы. Еще бы не быть веселыми, когда мы стали полноправными врачами, гражданами не по-теперешнему, а по-тогдашнему понятию. Тут за обедом я скоро напился пьян и кем-то был доставлен домой в бессознательном состоянии. Потом мне говорили, что меня внес на руках коридорный Иван, который потом служил у меня в Путятине и который говорил мне, что я тоже пью, что он-то носил меня пьяного, а я его не ношу, а он был великий пьяница и все 5 1/2 лет, которые он прожил у меня, он постоянно напивался, и говорил, что это в последний раз. Проспал я до ночи и на рассвете, стало быть, часов около 3-х, пошел походить по улице, развеять тот туман, которым была наполнена моя голова, а вечером поехал по Рязанской железной дороге в город Сапожок, чтобы заключить с управой условие на занятие места земского врача по северному, т.е. Путятинскому участку.
Эти воспоминания были бы не полны, если бы я не упомянул еще и знакомых: ведь бывали же минуты и даже часы, когда я отрывался от университетских дел. Вот об этих-то знакомых я и хочу сказать. Про дом Оболенских я уже говорил раньше, описывая свое существование на первом курсе. Когда был на втором курсе, я случайно, кажется на улице, познакомился с Борейша, мужем и женой, только что приехавших из Костромы или Владимира, где он окончил гимназию, а она была все время гувернанткой в каком-то семействе; они недавно повенчались, потом кто-то из костромичей говорил мне, что она была его гувернанткой, держала его очень строго в полном повиновении и приказала ему жениться на ней, что он и исполнил. Так ли это было или не так - не знаю, но что она сторожила его и теперь - это верно, потому что я сам бывал нередко свидетелем того, как она сторожила его, употребляя обычную фразу: “Митя - учись”. Он производил впечатление какого-то старичка, хотя был и молод: бороденка едва пробивалась, обещала быть жиденькой, рыжеватой, волосы на голове были тоже очень редкие, особенно надо лбом, стало быть, начиналась лысина, которую приписывали тому, что она таскала его за волосы и выщипывала их. Потом, со временем, он становился все более похожим на скопца. Он был зол к посторонним, но вполне раб своей супруги. Он получал в это время пенсию, которая была дана правительством потомкам его деда, бывшего комендантом в Смоленске, когда туда входил после упорной осады города Наполеон I-й. Крепость долго не сдавалась благодаря деятельности коменданта и, когда наконец сдалась, Наполеон, принимавший сам участие в осаде ее, велел, в пылу гнева, повесить коменданта, что и было сделано на остатках стены. За это упорство деда весь род получал пенсию, которая делилась поровну на всех членов рода до тех пор, пока она становилась совершенно ничтожной, доходившей кажется до рубля. Митя Борейша получал около ста рублей в год. Наталья Алексеевна, так ее звали, занималась и тут уроками, подготовляла ребятишек у себя дома, не желая оставлять Митю дома одного, что бы он не нашалил. Она была, как и он, небольшого роста, с наклонностью к округлению, с быстрыми, подвижными глазами, но вполне прилична, как и следует быть гувернантке. Оба они мало читали, а вернее ничего не читали, кроме учебников, которые заучивались. Выходили из дома тоже редко, разве лишь на прогулку, но зато он должен был бегать всюду по ее приказу или поручению; все время пока они жили в Москве, он должен был каждое утро сбегать в булочную Филиппова на Тверской улице за калачом для супруги, так как иной хлеб она не могла кушать. Ревнива она была до невероятности и раньше, во время студенчества Мити для проявления этого чувства не было никакого повода, а потом, когда он по окончании курса сделался ординатором у Коха, ревность ее расцвела полным цветом. Бывали случаи, что когда он, живя уже в хорошей квартире как врач, принимал пациентов, она сидела в другой комнате за дверью, подслушивая, что говорила больная, и если находила, что та говорит лишнее или неудобное, по ее понятию, свободно отворяла дверь в кабинет и резко обращаясь к больной, почти кричала ей, что бы она не смела говорить о подобных вещах, так как это развращает ее Митю. За достоверность подобных выходок ее можно ручаться, она не отрицала, когда ее спрашивали, правда ли это, но и не утверждала. Она поставила себе целью выдвинуть мужа в люди, познакомить его с лицами более или менее высокопоставленными, создать у себя хорошую обстановку, а за этими хлопотами забыла позаботиться о том, что бы он был поумнее. Он на всю жизнь остался невеждой во всем, чего не успел выучить в университете. Счастье ему все-таки везло: по окончании курса он поступил ординатором в акушерскую клинику и, благодаря этой фирме, пользовался хорошей практикой до тех пор, пока не разобрали его, и, если бы не мешала этому Нат. Алексеевна, получил степень доктора, опять благодаря тому, что она трепала его за вихор. Когда в Москве дела пошли хуже и он отслужил определенные для ординатора три года, они переехали в Кострому, где он занял место Главного доктора в земской губернской больнице и имел дерзость управлять больницей, а потом, когда там произошел какой-то скандал, благодаря неуживчивости его и нетактичности, он должен был оставить это место, продать карету, которую привез с собой из Москвы и наконец выехать из Костромы; но и тут счастье не покинуло его: он скоро получил место врачебного инспектора в Самаре, а глупость его развернулась еще более и он вынужден был выйти в отставку. Это случилось во время голода там или бывшей холеры в Поволжье. С тех пор ничего не слышно о нем. А когда он был еще в Самаре его отношения к супруге до того обострились и нравственность его до того испортилась, что жена должна была покинуть его, уехала в Москву, так как он стал открыто неверным ей, завел себе другую подругу жизни “девку”, как она горько жаловалась мне, встретившись со мною в Медицинском клубе. Замечательно то, что этот разъезд супругов произошел после более чем 20-и летней совместной жизни. Умерла она в меблированных комнатах, где-то у Арбатских ворот, в которых жила в последнее время; всеми покинутая, не примиренная со своим мужем, о благоденствии которого хлопотала всю жизнь, и который отплатил ей так жестоко. Не выдержал врачебный инспектор над собой постоянную опеку, хотя и был изрядно глуп. При ней был последнее время лишь племянник его, юнкер, который и хоронил ее на кладбище Скорбящего монастыря. Мы с Антониной Николаевной были на этих скромных похоронах, о чем я писал в Самару ее Мите, но от него не получил ответа. Кроме Борейша я иногда бывал еще у артистки Малого театра Надежды Дмитриевны Никулиной, тогда еще очень молодой, но уже пользовавшейся громкой славой. Это была очень талантливая артистка в ролях молодых, наивных девиц. Особенно она была хороша в пьесах Островского, например в “Доходном месте”. У нее мне приходилось встречаться с Островским, Садовским (Провом Михайловичем), с Живокини и Шумским. Она всегда разучивала свои роли перед большим зеркалом, трюмо, всегда следя за интонацией голоса, не стесняясь ничьим присутствием. Бывавший при этих разучиваниях Шумский всегда руководил ею. Вне театральных занятий это была очень любезная, внимательная особа, отзывчивая на все доброе, делавшая много добра, но так, что она оставалась в тени, как будто бы это не она сделала. Она вышла замуж за человека вполне недостойного ее, какого-то хлыща, Дмитриева, и скоро должна была раскаяться. С отъездом моим из Москвы знакомство наше прекратилось само собой. Кроме Никулиной я был хорошо знаком с артистом Малого театра по драматическим ролям Решимовым, который не поступивши еще в театр и не получивши еще отставку от военной службы, около месяца жил с нами в Челышах, в нашем номере, так как у него не было средств на собственную квартиру. Других знакомых я не припомню теперь, но их было вообще немного, так как все время было занято факультетскими делами и лишь изредка мы позволяли себе некоторые отступления от них. Все, что делалось в театре, мы знали очень хорошо благодаря тому, что у нас были знакомые из театрального мира и были большие любители театра, как, например, наш же земляк по Тамбову, Николай Васильевич Давыдов, женившийся потом на одной из балерин, Карпаковой. Он посещал театр очень часто. Какие там были певцы, что и кого они пели, мы знали отчетливо; доставать билеты в театр мы могли при содействии артистов, или кассиров, которые к студентам тогда благоволили, да и студенты были тогда не такие, как теперь; тогда больше занимались наукой, а не политическим развитием фабричных рабочих масс, не подготовляли революцию, от которой пришлось нам так солоно под конец нашей жизни.
Событие 4-го апреля 1866 года, выстрел Каракозова в Александра II, в Петербурге в Летнем саду совершился в то время, когда я был на первом курсе. Конечно, весть об этом пришла в Москву в тот же день. В первое время не знали, что придумать об этом, так велико было обаяние личности Александра II. Некоторые допускали мысль, что выстрел был сделан каким-нибудь экзальтированным помещичьим сынком, недовольным крестьянской реформою, отнявших даровых рабочих; такое мнение держалось несколько дней, пока не пришло известие о том, кто таков Каракозов и что за партия, к которой он принадлежал, и первый выстрел которого был произведен в Петровско-Разумовском парке, в гроте. Тогда только все поняли, что это было делом нигилистов и начали смотреть на них довольно косо. Нигилисты поняли, что теперь их дело плохо, многие сбросили с себя внешние знаки нигилизма, которыми раньше гордились: оставили дома свои сучковатые огромные дубинки, которые употреблялись первобытным человеком, побрили бороды и длинные волосы, вымылись, сняли красные рубахи, перестали ходить вразвалку, харкать и плевать наотмашь. Словом отрешились от всего напускного. Девицы нигилистки сняли синие очки, надели длинные юбки и платья, на них появились воротнички и нарукавники; они даже перестали курить папиросы на улице. Сборища их стали опасными для них и потому, если и происходили, то вне городской черты. А после выстрела, сделанного Березовским в Париже и мае того же года, надзор за нигилистами стал еще более бдительным, и им пришлось в Москве уже скрываться под полом, а до тех пор, они действовали открыто, афишируя свою принадлежность к партии. Многие из них пошли в народ, в деревню, что бы там распространять свое учение, но совершенно не зная народа, не понимая его взглядов и привычек, действовали глупо, необдуманно и самими же мужиками и бабами выдавались в руки полиции, которая не церемонилась с ними. Особенно недружелюбно относились крестьяне к тем девицам, которые уговаривали их вынести образа из изб, снять с себя кресты и прочее. Таких особ просто колотили, как могли, и выгоняли из деревни. Нигилизм стал расти под городской землей, а выросши выразился потом в действии Гармана близ Московского вокзала Курской железной дороги. Может быть не все знают чем окончилось дело Каракозова, так я скажу, был захвачен на месте преступления, что его толкнул под руку картузник Осип Иванов. Каракозов был судим, приговорен к смертной казни и уничтожен; он назвал многих своих соучастников, указал на связь с Нечаевым, убившем студента Иванова в Разумовском гроте, указал на магазин (книжный) Черкасова в Петербурге, где была как бы штаб-квартира партии, и многих отдельных лиц. В мае месяце на всех улицах Москвы, а особенно по вечерам на бульварах мальчишки продавали олеографии Осипа Ивановича Комиссарова и супруги его Елизаветы Ивановны, причем продавцы кричали: “Пожалуйте, Осипа Ивановича и его супругу Елизавету Ивановну за двугривенный”. По личному приказу Александра II, Комиссарову дано дворянство, он произведен в гусарские офицеры, ему подарен в Петербурге дом. Но всем этим пользовался он не долго; посыпавшиеся на него почести вскружили ему голову, он стал пить, выделывал такие штуки, за которые другого бы не похвалили, а ему, как спасителю государя, и иногда называвшегося просто спасителем, спускали. Это давало ему все больше и больше смелости и дерзости. Кончилось тем, что его втихомолку куда-то убрали и слухи о нем прекратились. Но он не должен был пропасть - ведь он умел шить шапки. А шапки нужны всякому, стало быть, где бы он не жил, а шапки мог шить всюду. В 1865 и 1866 годах было много разговоров всюду в Москве по поводу открытия нового суда, т. е. Окружного; мировой суд уже существовал даже в губерниях. Мне ни разу не пришлось быть в суде, хотя бы ради любопытства, несмотря на то, что я жил недалеко от суда и в летнее время был совершенно свободен, но о выдающихся адвокатах того времени слышал много, потому что в соседнем номере нашего “Рима” жили стенографы, которые вслух диктовали для газет свои стенографические записки. По уголовным делам тогда славился адвокат кн. Александр Николаевич Урусов, а по гражданским Рихтер и Лохвицкий, последние оба наживали громадные состояния, потому что адвокатов было мало и редко кто знал, как нужно вести дело, даже по самому простому иску, например, об утверждении в правах наследства, о вводе во владение и т.п. Адвокаты хорошо понимали, что их время недолгое, и потому, за самое пустяшное дело назначали большие суммы. Совсем в стороне от них стоял Урусов и прибывший потом в Москву из Харькова наш земляк П.А.Корсаков. Эти остались до конца неуязвимы, честны, бескорыстны. А Федор Никифорович Плевако появился уже впоследствии, много лет спустя.
|
||
на главную страницу to the head page