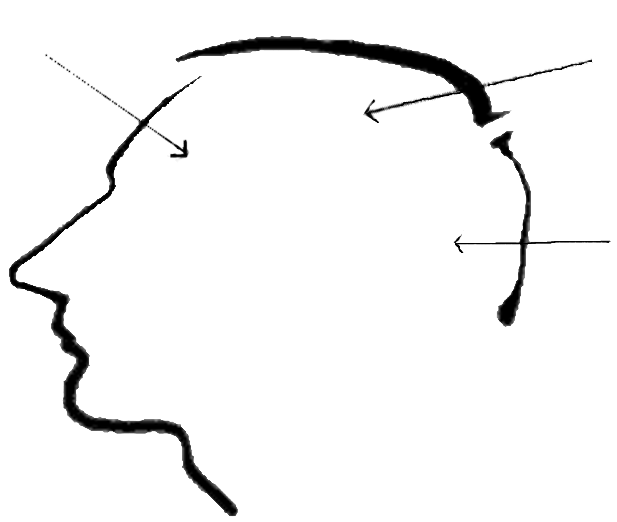 Главная страница
- Леонид Кипарисов. Живопись,
проекты.
Head Page - Leonid
Kiparissov. Painting.
Главная страница
- Леонид Кипарисов. Живопись,
проекты.
Head Page - Leonid
Kiparissov. Painting. |
 "Воспоминания Ивана Ильича
Курбатова доктора медицины 1846-1923"
"Воспоминания Ивана Ильича
Курбатова доктора медицины 1846-1923" |
||
 |
Глава 3.
Служба земским врачом в
Сапожковском уезде. май 1870 - октябрь 1876 Путятино и его обитатели . Струмы. Другие обитатели Путятино. Помещики Сапожковского уезда: Бродовичи, Губины , Беры и Протасьевы . Чулков. Колюбакин. Кошелёв. Эмме. Бырдин . Н.Н.Бер. Морозы и снега прежних зим.
|
 |
|
Раньше я сказал, что на другой день по окончании курса в Императорском Московском университете я поехал в Сапожок, чтобы поступить на земскую службу врачом, но, как я узнал о том, что там есть свободное место и что есть в России город, называемый Сапожок, об этом я не говорил. До тех пор у меня было самое смутное представление о том, что такое земство, в чем его функции, в чем функции земского врача. Попал же я туда потому, что живший со мной в одном номере Иван Федорович Лебедев часто бывал у сапожковского помещика Константина Андреевича Шиловского, семейство которого жило в Москве. Этот Шиловский был Гласным земского сапожковского собрания и весной, приехавши к семье в Москву, просил Лебедева рекомендовать кого-нибудь из сотоварищей на место земского врача в Путятино. Лебедев спросил меня, не соглашусь ли я занять такое место, я согласился - и дело было слажено. Меня стали там ждать до июня месяца, а в конце мая даже заходил к нам в номер Викентий Иосифович Погосский, сапожковский врач, чтобы сказать мне, что меня там ждут, чтобы я не поступал ни на какое другое место. Я на все это согласился главным образом потому, что назначалось 1200 рублей в год. Сумма эта в моих глазах, на тогдашний глазомер, была огромной, особенно одному, в деревне. Мне казалось тогда, что жизнь в деревне была необычайно дешева, да она и была действительно дешевле, не теперешняя. <…. > Я освободился от всяких обязательств относительно казны, был свободен и мог служить, где угодно, но, конечно, оставаться в Москве не мог за неимением к тому средств. А тут подвернулось предложение Шиловского, за которое я схватился как бы обеими руками. Выехал я из Москвы поздно вечером, нужно было ехать на Рязань, Ряжск и по Моршанской линии до ст. Ухолово, и оттуда 31 версту на лошадях до города. В Сапожок я приехал около 2-х часов дня, остановился на постоялом дворе, содер-жимом Ив. Вас. Колюбакиным, отдохнул там немного, с дороги почистился и в 4 часа был уже у председателя земской Управы Аполлона Сергеевича Головина, который уже знал о моем имени и моей готовности занять путятинское место. Побывши корот-кое время у него, пошли к члену Управы (он же и Городской голова) Еф. Дм. Ускову, которому Головин представил меня; сюда же вызвали бухгалтера Управы Каменева, приказали ему написать условия, на которых я поступаю. Я подписал их, мне выдали 200 рублей с тем, чтобы вычитать у меня по 50 рублей в месяц, вплоть до полной уплаты их. Я получил деньги, распрощался с Головиным, Усковым и Каменевым и уехал домой, т.е. в Москву. Замечательно, что при всем этом у меня никто не спросил никакого письменного документа, а все дело велось на словах, и я был бы поставлен в затруднительное положение, если бы у меня спросили какой-нибудь вид на жительство или бумажное удостоверение о том, кто я. Все было просто, патриархально. Один лишь бухгалтер попросил меня расписаться в получении 200 рублей. Возвратившись в Москву, я пробыл в ней очень короткий срок, всего 2-3 дня, выручил себе подорожную на проезд от Валдайки до Устюжны и обратно на почтовых лошадях и уехал без всякой надобности к брату в Белозерский уезд. Там был всего одну неделю и возвратился в Москву, уже не застал ни Лебедева, ни Анохина, ни Голосова, все успели за это время разъехаться по своим местам, и нашел номер пустым, в нем были лишь мои вещи, т.е. моя шкатулка, доставшаяся мне от деда (отца матери) и ящик с книгами, по большей части теперь ненужными, и целым ворохом разных литографированных лекций. Бросить все это добро мне не хотелось, и я повез его с собой. Потом оно почти все понемногу растерялось, теперь сохранился лишь один латино-русский словарь Кроненберга, которому теперь более 150 лет. В Москве мы окончательно договорились с Иваном, чтобы он жил у меня в Путятине, и 14 июня вечером выехали из Москвы в Сапожок, приехали туда 15-го около полудня, я представился вновь Головину и на следующий день был уже на месте своей службы, т.е. в с. Путятине. По дороге из Сапожка, конечно на лошадях, мы с Иваном расспрашивали ямщика о том, что это за земли, по которым мы ехали, чьи леса, и каково же было наше удивление, когда слышали, что все это Кошелевские владения. Я и составил себе представление о Кошелеве, как о каком-то Крезе, да и не ошибся - это был один из самых крупных помещиков во всей Рязанской губернии, но к воспоминаниям о нем я еще перейду после. Теперь же скажу лишь, что на всем протяжении от Сапожка до деревни Отрады нам пришлось ехать по его владениям, а это было более 20 верст. Приехали мы в Путятино в базарный день, в среду, остановились в единственном постоялом дворе Манушкина, он же Лаптин, на базарной площади, замечательно грязной, неприветливой. Конечно, здесь у нас не было ни одной знакомой души. Я велел позвать к себе моего будущего сослуживца, земского фельдшера Вас. Чижикова, который скоро явился и произвел на меня хорошее впечатление. Я порасспросил его о том, что тут делается, когда приходят больные, с какими болезнями чаще всего, откуда берутся лекарства, много ли лежало в больнице. Оказалось, что в больнице никто не лежит и не лежал; до меня был врачом всего 3 месяца Як. Сид. Никольский, бывший военный врач, человек уже престарелый; что лекарства получаются из города при посредстве Управы, и вообще за всем, что нужно для больницы, следует обращаться в Управу. Отпустивши Чижикова, я попил чаю и пошел в больницу. Что же это за больница?! Я мог бы свободно пройти ее, не зная, что это именно она, а не обычная изба, если бы на крыльце ее не стоял тот же Чижиков. Вся больница состояла из двух изб, как здесь говорят, пятистенных, соединенных между собой сенями, или - сенями разделенная на две половины длинная изба. В одной (левой) половине помещалась приемная, и стояли 3-4 кровати железные с соломенными тюфяками, небольшая ширма, а за ней - еще кровать. Этот угол за ширмой изображал собой родильное отделение. В другой половине была русская печь, занимавшая довольно много места; здесь помещались аптека, кухня, прачечная (без существования прачки) и квартира фельдшера, семейного человека. Нужно было быть особенно нетребовательным человеком, чтобы жить в таких условиях, в каких жил этот фельдшер. При осмотре аптеки оказалось, что в ней были по большей части все разные травы, немного хинной корки, серая ртутная мазь, скипидар, свиное сало и еще что-то; вообще все было бедно, скудно; аптекарской посуды не было; весы были, но маленькие и не полный разновес. Вместо хирургических инструментов была налицо лишь сафьянная сумка, довольно подержанная, от фельдшерского набора инструментов, но самого набора не было, вместо инструментов там лежала лишь полоска железа (обрезок кровельного железа), перегнутая пополам и называвшаяся пинцетом. Ни иголки, ни шелка не было. Во всей больнице не было никакой посуды, принадлежавшей собственно ей, кроме нескольких горшков; не было даже и отхожего места. Словом сказать, изба эта ничем не отличалась от обыкновенных крестьянских изб, почти покинутых жильцами; она называлась только больницей. Стало быть, все нужно было заводить вновь, понемногу, чтобы не запугать слишком большими требованиями и Управу, и попечителя больницы Карла Карловича Эмме, с которым я еще не познакомился. В первый же мой визит в больницу туда приходило несколько человек больных, приехавших, конечно, не нарочно за тем, чтобы лечиться, а потому, что это был базарный день и слухи о приезде доктора быстро разнеслись по базару. И вот те, у которых что-нибудь болело, шли посмотреть на новое лицо. А у кого же что-нибудь не болит, если не постоянно, то хотя бы по временам? Какое впечатление произвел на них я сам - не знаю. Знаю только, что когда я возвращался к себе на постоялый двор примерно часа через два, я слышал уже, что называли мое имя и фамилию, говорили, кто я такой, откуда прибыл. Сведения эти получились, вероятно, от моего Ивана, который для первого знакомства успел пропустить стаканчик. Назавтра утром за мной уже прислали из имения Всев. Ал. Губина “Славино”, прося (конечно, на словах) приехать к больной. День был ясный, теплый, тележка присланная довольно удобная, лошадь тоже хорошая, я с удовольствием проехал верст 8-10. Больная была чахоточная жена конторщика, едва ходившая. Первый мой врачебный шаг был, стало быть, малообещающий. К концу моего визита туда пришел живший там же в имении, даже в помещичьем доме, какой-то субъект, не то управляющий, не то приживальщик, отрекомендовавшийся: “Тутыкин, один из беспутных”. Это был среднего роста человек, довольно сухощавый, с выпученными глазами, огромными усами, какие носят московские брандмейстеры, любитель спиртных напитков, к которым привык, как он заметил мне, еще во время его службы в Московской полиции, а служба эта была, кажется, не выше квартального. Пробыл я здесь часа два или три, и меня отвезли обратно. За первый визит мой я получил три рубля. Деньги эти были мне кстати, потому что у меня их не было, и, когда я расплатился с ямщиком, привезшим меня из города, у меня осталось лишь две копейки. Эта двухкопеечная монета была у меня цела до последнего моего выезда из Москвы; она лежала в письменном столе. Для того, чтобы не остаться совсем без денег, я занял у Ивана двадцать пять рублей. Деньги нужны были для того, чтобы уплачивать за прожиток и за лошадей, так как я должен был в самом скором времени ехать на фельдше-рские пункты по своему участку и платить прогоны из своих средств: а пункты эти были: Завидово, Чучково, Пластиково и Карабухино, хотя фельдшера жили только в Карабухине и Завидове. Этот объезд фельдшерских пунктов предпринят был мной в скором же времени по приезде моем на службу и привел меня к печальному выводу - он выражался в том только, что я узнал, что там живут фельдшера, или, лучше сказать, - люди, называющиеся фельдшерами; они ничего не знают, никаких лекарств у них нет, как и в Путятине; нет у них даже Эсмарховой кружки, чтобы поставить клизму. Один из них, живший в Карабухине, Рунов был великий пьяница, любитель игры на гармонике, целыми днями пиликал на ней, а иногда и плясал, не знал совсем своего дела. Мне пришлось в скором времени прогнать его со службы. Другой, живший в Завидове, бывший дворовый человек, служивший у барина в его больнице тоже фельдшером, был очень добрый человек, внимательно, ласково говоривший с больными; за это свойство его любили в деревне, но как фельдшер - он был совершенно бесполезен. Латинские буквы он знал, мог написать ими какое угодно слово, но названия лекарства и писал, и читал всегда сокращенно. Его можно было заставить выполнять любую подручную работу, и он выполнял ее совершенно безропотно, будучи в полном убеждении, что если велят делать, стало быть, это нужно, хотя бы пни ворочать. Назывался он Павел Иванович Кочетков. Носил он по прежнему, дворовому обычаю длиннополый кафтан сине-серого цвета, круглую бороду и волосы, подстриженные в скобку. За добродушие его я его не беспокоил, но всякий мой приезд к нему на пункт советовал ему давать такое-то лекарство при такой-то болезни, например, хинин - при лихорадке, причем говорилось, что лихорадка выражается таким-то признаком. Он все это внимательно выслушивал, иногда лишь вставлял свое замечание, вроде того: “А ведь это здесь бывает часто”, и запоминал настолько, что когда потом через месяц или больше, я спрашивал его: “А какими признаками, Павел Иванович, выражается перемежающаяся лихорадка?”, - он всегда отвечал: “Как Вы изволили приказывать: ознобом, жаром и потом”. Он был гораздо старше меня летами, уже за 40, но наивнее меня во многом. Когда я уехал из Путятина, он остался на своем месте фельдшером и покончил свои дни там же. Теперь в Строевском живут потомки его, кажется, дочь. Вот с этими-то силами и без всяких средств лечения, я стал заведывать огромным участком, в котором было более 50 000 душ людей. Я приходил в отчаяние от полного моего бессилия как врача, и тотчас написал в Управу, что я тут при таких условиях совершенно ненужный человек, прося ее, чтобы она выслала хотя какие-нибудь медикаменты и необходимые на первый раз инструменты. Тут и сказалась моя служебная неопытность, мне нужно было написать, что именно мне нужно и в каком количестве, а я пишу, чтобы дали что-нибудь. Прошла неделя, я получаю из Управы запрос, да что же именно мне нужно. Я наскоро составил список тех средств, которые желательно было бы иметь, с обозначением количества каждого из них, и вот прошло недели две еще - и я получил целый ящик медикаментов согласно моему требованию, мог начать раздачу медикаментов, между которыми было много хинина, получилась возможность лечить лихорадку с успехом. А лихорадок было много. Затем нужно было познакомиться с попечителем больницы Карлом Карловичем Эмме, жившим от меня в 15-ти верстах, в своем имении, бывшем Пластикове. Он был мировой судья. Я воспользовался первым подходящим случаем и поехал к нему. А случай был таков: он просил меня, как врача, дать свое заключение о свойстве побоев, нанесенных какому-то просителю, и не задержать ответом. Я осмотрел следы побоев, написал отзыв и повез его сам. Приехал в Пластиково, не застал Эмме дома, мне сказали, что он скоро возвратится, и я согласился ждать. Действительно, он скоро приехал из поля; я представился и передал ему бумагу; он оставил меня у себя обедать, и за обедом мы разговорились. Оказалось, что он во всю жизнь свою никогда не бывал в больнице и не знал, что нужно для оборудования хотя бы самой крохотной больницы, какой явля-лась путятинская. Мы вместе с ним составили список тех вещей, которые нужны в больницу, хотя бы на первое время, и разного белья. Он взялся все это доставить, и, действительно, доставал, но все это было самое плохое, базарное; тазы, например, были не долговечные медные, а железные, сделанные из кровельного железа, даже выкрашенные с одной только стороны - с наружной, а внутри, где они могли ржаветь и оттуда продыря-виться, оставлены без краски. Но он обещал впоследствии все доставить хорошее, но, вероятно, забыл, так и не доставил, то же произошло и с бельем; в оправдание последнего входило то, что в больницу будут поступать мужики и бабы, которые и дома у себя носят белье не лучше этого, это, пожалуй, и правда, но лучше было бы иметь хорошее. В это же время начались переговоры Управы о приобре-тении своего дома для больницы. Дом этот, бывший собствен-ностью какого-то помещика Пальховского, теперь со всем, с землей принадлежал Дарье Ник. Стурм. Он был совершенно в стороне от жилых помещений, близ самой дороги (большой), довольно хорошо расположенный, при нем была отдельная изба и необходимые постройки (сарай и погреб). Этот дом предпола-галось обратить в больницу, что было бы совершенно дворцом, сравнительно с той избушкой, в которой была больница теперь. К 1-му октября ремонт дома должен был бы окончиться. В конце июля или в августе ко мне заехал судебный следователь Ст. Карл. Нацевич, вручил мне повестку, которой он вызывал меня в дер. Поповку, для вскрытия трупа новорож-денного младенца. Вскрытие, по мнению следователя, нужно было потому, что мать обвиняла другую женщину в том, что та нанесла ей побои по животу хворостиной, вследствие чего она родила преждевременно. Я поехал вместе с ним и с фельдшером в Поповку, произвел вскрытие трупа и написал протокол, настолько подробный, что удивил следователя, не привыкшего к таким подробностям. Я высказал мнение, что роды у этой бабы произошли не от побоев, а оттого, что она была беременна двойней, причем один младенец был давно уже мертвым и, обратившись в бесформенную массу совершенно черного цвета, своим присутствием должен был вскоре вызвать рождение собрата. Умер же он от неизвестной причины, задолго до нанесения побоев. Судебный следователь был в восторге от заключения, но дело все же разбиралось в Окружном суде, куда я был вызван потом в качестве эксперта. Обвиняемая была оправдана, а истица явилась на суд с новым ребенком на руках, хотя в прошении к следователю говорила, что вследствие этих побоев она стала неспособной иметь детей. Улика была против нее. Я прожил на постоялом дворе лишь несколько дней и перебрался на свою квартиру, в отдельную избу какой-то вдовы; дом этот сгорел, когда я уже жил в помещении больницы. Дом, выстроенный на его месте моим Иваном, который женился на вдове, хозяйке дома, тоже сгорел во время большого пожара в селе. Изба, занятая мною, была довольно просторной, разделенной на три комнаты перегородками, не доходившими до потолка, довольно чистая, без клопов и тараканов. Кушанье я получал из трактира, бывшего на базарной площади; мне отпускалось столько еды, что мы с Иваном были сыты вполне. Отпускалось обыкновенно два кушанья, причем второе состояло из четырех рубленных котлет; все вместе стоило 40 коп. Конечно, при этом был и хлеб, а к котлетам жареный картофель. Обратился же я в трактир за кушаньем потому, что, хотя Иван и говорил мне в Москве, что он может готовить кушанье, но по первому же разу оказалось, что он приготовил такой рисовый суп с курицей, что его нужно было назвать крутой кашей. Это его мало сконфузило. Потом, когда я переселился жить в отремон-тированный дом, где поместилась больница и моя квартира в две комнаты, когда в трактир за кушаньем стало ходить неудобно по дальности расстояния, я договорился с женою фельдшера Чижикова, чтобы она готовила мне вместо кухарки. Она согласилась на это за три рубля в месяц, но готовила так, что или не дожаривала, например, курицу, или пережаривала, а впору никогда это не выходило. Неуменье ее было поразительное. Хлеб, и белый и черный, покупался или на базаре, или в лавке. Баранки тоже в лавке. В среду они хороши, а в остальные дни cо всячинкой и, конечно, сухие. Мясо и прочие съестные продукты брались тоже в лавке. Жить вообще можно было, относительно питания, и дешево оно было поразительно по теперешним ценам. Например, хорошую курицу приносили на дом за 25 коп., а купить у мужика во дворе можно было не менее как за 40 коп. Эта разница в цене объяснилась тем, что, когда он нес курицу ко мне - стало быть, ему нужны были деньги, а когда я шел к нему - стало быть, у меня была нужда. Вот за эту-то нужду и приходилось платить больше. Конечно, в жизненном отношении я мог бы устроиться и лучше, например, нанять себе квартиру у кого-нибудь из помещиков, благо их было много в Путятино, и у них же устроиться со столом и, пожалуй, даже и с лошадьми. Но тогда как-то это не приходило в голову, да и стоило бы гораздо дороже, ведь они должны были бы ценить во что-нибудь свои дома или комнаты, а тут я за квартиру не платил ничего и был во всем доме сам хозяином, а это имело для меня немалое значение. В конце сентября я был вызван в Сапожок в качестве эксперта во временном отделении Окружного суда по делу одной бабы, обвинявшейся в утоплении своего ребенка. Роль эксперта для меня была большой новостью, я никогда не бывал в суде и в Москве, знал о роли эксперта только по лекциям Мина и не представлял себе всех подробностей этого положения. Дело этой бабы состояло в том, что она, глуповатая или забитая, но еще молодая, шла летом из одного села в другое, кажется, к матери, и дорогой захотела пить. Дорога была близ реки, она подошла к берегу, наклонилась над водой, чтобы достать ладонью воды, а другой рукой опиралась в берег. Одета она была в шушпан, местный костюм, наподобие халата, и за пазухой этого шушпана у нее спала ее дочь, около 6-ти месячного возраста. Когда она стала пить, дочь вывалилась у нее из-за пазухи и упала в воду, дно реки здесь было глубокое, аршина на два, ребенок утонул перед глазами матери. В этом-то и обвинялась баба. Экспертами были я и земский врач Городского участка доктор Погосский, защищал частный поверенный М.П. Ремизов, впоследствии председатель Земской Управы. Всем нам удалось убедить присяжных, что баба была невменяема по своей глупости ? говорила, например, в том селе, куда шла, что она оставила ребенка дома, а, когда через несколько дней вернулась домой, говорила дома, что оставила ребенка там, где была, думая, что ей во всем поверят. И только, когда началось уже дело, рассказала все, как было. Присяжные оправдали бабу, и мы торжествовали, потому что оправдана была совершенно невиноватая в своей глупости баба. Как потом оказалось, в приглашении меня экспертом суд руководствовался настойчивыми рекомендациями того же судебного следователя Нацевича, оставшегося очень довольным моим протоколом по поводу вскрытия в деревне Поповка. Не возвращаясь из суда домой, я уехал на две недели в отпуск в Москву и купил там необходимые инструменты, как скальпели, пинцеты, иголки и шелк для швов. Возвратился домой уже совсем осенью, и в свою постоянную квартиру при больнице. Тут пошла ежедневно обычная жизнь с приемами при-ходящих больных, а стационарных или коечных еще не было, население косо смотрело на это новшество. Нужно было как-нибудь заманить больных в больницу, показать народу, что больница - не морильня и дает помощь. В народе же упорно держалось убеждение, что в больнице уморят, кого хочешь, что никто еще не видал такого человека, которого бы вылечили в больнице; бабки, знахари и знахарки были в ходу, их положение поддерживалось даже и земством. В этом отношении я сошлюсь на постановление земского собрания, бывшее уже лет через пять после моего приезда в уезд: по ходатайству члена Управы Ускова, подтвержденному уездным врачом Чернявским (тогда был уже постоянный уездный врач), земское собрание постановило выдать коровкинской бабке (из деревни Коровки, близ города, как награду за ее деятельность, двадцать пять рублей. Чернявский тоже писал похвальный отзыв о ней, говоря, что она многократно помогала ему при вправлении вывихов. На самом же деле она никакой помощи ему не оказывала уже потому, что он в своей жизни, кажется, и не видал никогда вывиха. Если такое отношение к бабкам было со стороны земства, где должны были заседать лучшие умственные силы уезда, то чего же можно было ожидать от общей серой массы! Так как все постановления земских собраний получали силу лишь по утверждении их губернатором, то надо полагать, что и это было утверждено им, потому что бабка деньги получила. А губернатором был в это время, казалось бы, и неглупый человек Н. Аркад. Болдырев, и он пропустил тоже постановление, тогда как прямая обязанность его была указать земскому собранию на всю глупость и нецелесообразность постановления. Вот при таких-то условиях и извольте вводить рациональную медицин-скую помощь! В достижении своей цели я поднялся на хитрость, которая состояла в том, что я договорился с одной бабой-бобылкой, что я дам ей 3 рубля, если она будет ходить месяц по селу, жаловаться всем на разные болезни свои (“болести” - по местному выражению), а потом поступит в больницу, где я не буду ее лечить, а лишь хорошо кормить; после месячного житья у меня она должна будет опять ходить и рассказывать, как ее хорошо лечили в больнице. Так мы и сделали. Баба поступила, жила без всякого дела, пила чай, хорошо ела и разъелась до того, что изрядно пополнела. Результат пребывания в больнице был налицо; реклама сделала свое дело. Больные пошли и даже сами начали проситься в больницу, через полгода уже не хватало мест в больнице. Но тут уже понадобилось держать ухо востро, не сделать какой-нибудь промах, чтобы не уронить больницу в глазах населения, что и удалось, да к тому же большое значение имел тут еще и шприц для подкожных впрыскиваний. Дело это было здесь настолько новое, неслыханное, что считали это не иглой, а называли “громовой стрелой” или другие - “наговорной иглой”. По поводу этой иглы стали ходить самые разнообразные, нелепые рассказы. Много лет спустя, при мне рассказывал один священник (Фед. Озерский, тесть священника в Малом Пласти-кове) такую историю. Будто бы однажды он приехал в Путяти-но к своему брату, тоже священнику, шли куда-то по улице и на мосту встретились со мной, разговорились, в это время к нам подошел какой-то мужик, у которого вся голова была обернута разным тряпьем. “Мы, т.е. иереи, спросили его, что это значит, что у него так закутана голова, а он говорит нам, что его одолела зубная боль, и что он страдает от нее уже несколько дней, а Вы, - говорит иерей, - выслушали его, велели размотать все тряпки с головы, достали из кармана громовую стрелу и - пырь ее в щеку больному. Тот даже глаза вытаращил, а потом как крикнет: ‘‘Давайте мне орехов, грызть буду! Совсем ничего не болит’’. Вот как могли Вы, Иван Ильич, лечить. Теперешние доктора так лечить не умеют”. Курьезно то, что рассказ этот происходил не только при мне, но и в присутствии другого молодого врача, и рассказчик, видимо, от души верил всему тому, что он говорил. Если через 35-40 лет после появления шприца для подкожных впрыски-ваний рассказывались такие истории, пелись такие дифирамбы, то что же говорить тогда, когда в темной, серой массе жило убеждение в колдунов, заговоры, разные заморские новинки? В помещичьей среде шприц Праватца тоже играл нема-лую роль в разных рассказах, особенно между теми лицами, которые не бывали уже давно в Москве, а Москва в то время была центром всяких знаний. А тут вдруг появился молодой врач из Москвы, только что окончивший курс в университете, этом высшем учебном заведении, старейшем во всей России - “Ему, конечно, и книги в руки; ведь не даром же правительство дало ему диплом, несмотря на его возраст; стало быть, он знает, многое знает”. Так говорили обо мне. И начали приглашать к себе на дом. Практика у меня составилась большая, и редко когда сидел я дома больше суток. Присылали за мной лошадей всегда так, чтобы я мог приехать к обеду, и кормили же меня на убой, не щадя никаких средств. А из тех домов, в которых были взрослые дочери, стало быть, невесты, присылали особенно часто, по самому ничтожному случаю болезни.
Путятино и его обитатели
Теперь пора перейти к описанию самого Путятина. Это довольно большое село, лежащее в котловине из глинистых и песчаных возвышений вокруг него; по всем окрестностям его - всюду овраги; в некоторых оврагах есть ничтожные ключи хорошей холодной воды, а чаще - они совершенно сухие, лишенные всякой растительности. В нем есть река Ворша, текущая из ключей, но маловодная, и все же на ней была когда-то построена мельница, теперь уже не существующая, от плотины которой остались лишь отдельные столбы, одиноко торчащие, точно подгнившие зубы у старика во рту. Село это старинное, что видно уже из того, что в нем три церкви, из которых одна построена бывшим владельцем села князем Пожарским, стало быть, вскоре после 1612 года. Всего в селе более 3000 душ. Оно делится без резких границ на две половины: одна - казенные крестьяне, так называемые “экономические”, другая - бывшие помещичьи. Количество земли надельной не одинаково у обеих половин: помещичьи получают по 1,5-2 десятины на душу, а у экономических - по 16 десятин; но разница в том, что бывшие крупные помещики владели землей, смежной с их деревнями, а у экономических - она за 12-15 верст от села, что, конечно, неудобно относительно удобрения и уборки урожая. Такая хорошая, отдаленная земля (Грани) находится недалеко от сел Песочня и Летники и никогда не удобряется. Помещичьи земли принадлежали графине Ритч и Стурм. Ритч какими-то судьбами унаследовала землю от Пожарского, никогда не была здесь, жила постоянно при станции Раменское по Московско-Рязанской железной дороге. Она распродала всю землю отдельными участками с оригинальным условием, а именно: покупатель должен ежегодно уплачивать ей довольно крупную сумму до конца ее жизни, делается как бы дорогим арендатором, а после ее смерти, так как у нее не было никаких наследников, имение поступает в собственность покупщика. Ввиду ее преклонного возраста, некоторые соблазнились этими условиями и порядочно поплатились, потому, что она пережила их, а всего она прожила 104 года. Один из покупателей, однако, пережил старуху - это был генерал Аверкиев, служивший, кажется, полицмейстером в Москве. Может быть, я говорю и неверно, но помню хорошо, что он смахивал на полицейского. Я познакомился с ним лишь на второй год моего приезда, когда он сделал мне визит, а я возвратил визит и обедал у него, познакомился с его женой, какой-то забитой, сосредоточенной особой, молчальницей. Звали ее Наталья Кирилловна, из рода Нарышкиных или Коновницыных. У них был очень красивый дом, деревянный, содержимый в полном порядке и чистоте, а еще лучше был роскошный сад, спускавшийся к речке. Дом и сад были в стороне от села. Ездил Аверкиев, конечно, в коляске “парой в дышло”. На дворе был цветочник, посреди которого стоял высокий шест, выкрашенный казенной краской, т.е. белой и черной, а между ними - оранжевой краской, введенной в употребление Павлом I и особенно распространенной Аракче-евым. На шесте поднимался русский флаг в то время, когда генерал был дома. В беседе с генералом было что-то давящее, гнетущее, невольно хотелось молчать, а не высказываться, да и он-то сам был не особенно говорлив, как оказалось потом - под влиянием сахарной болезни, от которой он и умер в скором времени. Я был у него в Путятине всего один раз, а другой раз в Москве, где он жил постоянно, лишь в деревню приезжая на лето, на дачу. Но и в Москве было не лучше деревенского, та же тоска, та же придавленность. Кроме этого, я не могу сказать ничего больше.
Стурмы Кроме этого генерала, было много еще более мелких помещиков, унаследовавших свои владения от Ник. Стурма - или как сыновья его, или как зятья его; или получивших их от сыновей. Старик Стурм был, кажется, моряк; но я уже не застал его. Он был богат, судя уже по количеству унаследованных земель, принадлежавших раньше ему одному, а также и по тому, что он был женат на княжне Долгоруковой и был предводителем дворянства, - стало быть, человеком, имевшим возможность давать дворянству обеды в благодарность за избрание его предводителем. Сыновей у него было два, с которыми часто мне приходилось иметь дело. Оба они были в военной службе, немного послужили и, конечно, порядочно тряхнули на службе отцовское состояние, почему и должны были выйти в отставку. Старший из них - Александр Николаевич был невероятно глуп и зол; с крепостными своими он обращался варварски жестоко и, когда вспоминали про это, он как бы гордился этим. Например, у него был камердинер-парикмахер (Павел Ефимович), на сестре которого женился Стурм, когда у него от нее были уже взрослые дети (он потом жил у меня в качестве повара). Этот Павел Ефимович должен был стричь и завивать своего хозяина каждую неделю и во все время, пока тот работал над его головой, он щелкал его в нос, разбивая его в кровь, иногда с первого раза. Таким путем он испытывал свою силу, а всем было известно, что силы у него много. Этот же Александр Ник. Стурм фигурировал под № 1, когда открылся Рязанский окружной суд; он судился за то, что дал пощечину становому приставу Малинину, когда тот явился к нему по какому-то делу. Присяжные обвинили его, и он попал на год в острог. Он был уверен в том, что большой знаток лошадей, но понимал в них столько же, сколько я понимал в слонах или удавах. Когда у него были крепостные, он гордился тем, что, едучи куда-нибудь, всю дорогу колотил кучера по голове чубуком так, что даже разорвал у него шапку. Сам же никогда не решался править лошадью из-за полного неуменья. Все время, которое я прожил в Путятине, я видел его ежедневно и ни разу не слыхал, что бы он сказал что-нибудь, если не умное, то и не глупое. А глупость его была невероятная. Например, он заложил в Опекунский совет более половины своего имения, получил деньги - и что же он сделал на них? Отправился в шорный магазин и купил там наборной сбруи на две тройки, сказавши, что пойдет сам за подводой, чтобы отвезти покупку домой. Выйдя из магазина, он увидал какого-то ломового извозчика, которого признал за путятинского, остановил его и стал расспрашивать, что это значит, что тот не узнал его? Тот сообразил, что барин дурковатый, схватил с головы шапку, стал извиняться. А Ал. Никол. тоже подсказал ему: “Я вижу, брат, что давно ты не пробовал палку или кнута, что забыл барина Александра Николаевича”. Мужику, видимо, только и нужно было узнать его имя, он начал уже приговаривать: “Ах, батюшка, Александр Николаевич! Да как же это я, дурак этакий, не узнал Вас, своего барина?” Александр Николаевич был польщен извинениями мужика и спросил его, не может ли он отвезти к нему в гостиницу покупку - две троечных сбруи, “а я, - говорит А.Н., - поднесу тебе стаканчик водки. Ты знаешь ли, где я живу здесь?”. - “Нет, батюшка, Ал. Ник., не знаю”. Тот назвал гостиницу, хорошо известную ломовому. Ломовой сказал, что знает, и даже назвал улицу, на которой находится гостиница, и добавил, что он подождет там барина. Ал. Ник. это очень понравилось, что его будет дожидаться мужик, которому не нужно ничего платить за провоз клади, а только нужно будет дать стаканчик водки. Он велел вынести покупку из магазина, положить к ломовому на телегу и велел ему ехать и дожидаться в гостинице, а сам пошел купить еще что-то. И каково же было его удивление, когда он, придя в гостиницу, не нашел там ни ломового, ни сбруи и на вопрос - не привозил ли ломовой его вещи, не спрашивал ли его, Стурма, получил в ответ, что никто не приезжал, никто его не спрашивал. Так две троечные наборные сбруи и пропали вместе с мужиком. Прошло много лет и Ал. Ник. опять попал в Москву и, когда видел проезжавшую или стоявшую на площади тройку лошадей в наборной сбруе, всегда всматривался в сбрую, думал, что не она ли та самая, которую он купил и которую так коварно похитил у него мужик. Он был вполне уверен в том, что этот мужик был путятинский. Еще лучше с ним произошла история, вследствие которой он лишился половины имения. Дело было так. Он заложил, как я сказал, свое имение (более половины) в Опекунский совет - банковское учреждение, созданное на то, чтобы поддержать дворян в их расточительности, и не заплатил в должное время проценты, думая, что это учреждение - дворянское, и не станет же оно теснить своего брата дворянина. Ему напомнили вторично официальной бумагой, что если он не внесет проценты, то в такой-то день его имение будет продано с публичного торга, т.е. с аукциона. Но и тут он не побоялся, не даром же он штабс-капитан, стало быть, храбрый военный человек. Он вздумал перехитрить всех тех, которые захотели бы купить его имение. И в тот день, в который назначена была продажа его имения, он созвал своих соседей дворян и дал им обед. И, когда в конце уже обеда кто-то из присутствующих спросил его, по какому случаю у него такой торжественный обед, он с гордостью объявил, как он ловко обошел Опекунский совет - что сейчас должны быть торги на его имение, а покупатели-то все здесь у него, и, стало быть, торги отложатся еще на год. Он никак не мог допустить, чтобы кто-нибудь решился купить имение посто-ронний, не видавший имения - и как же он был разочарован, когда спустя две недели после этого обеда к нему во двор въехал исправник с каким-то господином. Исправник отрекомендовал господина Климовым и показал хозяину форменную бумагу, в которой значилось, что Климов купил с публичного торга землю, принадлежавшую Стурму, и вводится во владение ею. Так он лишился и имения, и сбруи, и денег; осталось лишь воспоминание о торжественном обеде и коварстве нового соседа. Совсем другого рода был брат его Иван Николаевич Стурм. Этот был тоже военный, никогда никого в жизни не только не ударивший, но даже и не обругавший. Вообще был человек очень добрый, но вполне беспечный, как и все Стурмы. Этот прожил свое состояние еще более оригинальным путем - он пропел и проплясал его в Москве у цыган и до того усвоил себе все свычаи и обычаи цыган, что, когда у него ничего не осталось, он поступил к ним в хор запевалой и служил там два года. Конечно, цыгане не дали ему ничего, и он должен был бежать из Москвы пешком, а от Рязани ехал со знакомым мужиком, будучи спрятан им в воз соломы. По приезде домой, в Путятино, он скрывался от гнева отца на чердаке дома его замужней сестры (Введенской) и слез оттуда только в день похорон отца. Земли у него осталось очень мало, но зато прекрасная, огородная, которая могла бы давать большой доход, но и тут его фантазия чуть не наделала беды. Он вздумал пуститься в коммерческое предприятие, а именно - купил большое количество семян травы вайда, из которой раньше приготовлялась синяя кубовая краска, и засеял всю свою землю. Он уже думал строить завод для выделки этой краски, но не знал, как приступить к этому, и поехал по этому поводу в Петербург, нашел там знакомых и застрял года на два. А трава вайда так и осталась, и уже жена его сдала землю под огороды, для чего огородник должен был выпахать траву, чтобы не осталось и воспоминания о ней. Так неудачно окончилось это предприятие, а ведь какие-то надежды оно сулило. Он редко горевал о чем-нибудь, был всегда весел, готов каждую минуту петь и плясать и, если иногда делался грустным ввиду отсутствия средств на воспитание детей, его всегда можно было вывести из этого состояния - дать ему только гитару в руки, он брал ее, подергивал струны и начинал подпевать, конечно, уже петушиным голосом. Я застал его в Путятине, когда ему было уже около 60-ти лет. Но он был все такой же, как и раньше - веселый, радостный, пляшущий и честный. За все эти качества его любили, и даже дворяне дали ему место заседателя в уездной дворянской опеке - тогда была такая должность и было такое учреждение. Ему платилось 40 руб. в месяц, за которыми он аккуратно ездил в город. Рассказывали мне, что, когда после смерти отца эти братья делились, то старший из них настаивал на том, чтобы младший делил все пополам, а не то, чтобы одну вещь - одному, другую - другому; так, пожалуй, молодой, по неопытности его, старшего, и заделит. Дележ дошел до того, что в оранжерее были поделены померанцевые деревья и стекольные рамы; эти рамы, перере-занные пополам, и, стало быть, никуда негодные, я видел у них. Другие два помещика, жившие тут, были не здешнего происхождения, а пришлые, женившиеся на сестрах Стурмов. Это были контр-адмирал Северного флота Михаил (а он писал Михайло) Алексеевич Калугин, ничего особенного не представ-лявший, вообще - хороший человек, равно как и супруга его. Они напоминали мне старосветских помещиков. А другой, отставной полковник Введенский, из духовного звания - университетский филолог, странным образом ставший военным. Этот был очень жестокий человек со своими крестьянами, особенно с девицами, драл их беспощадно за то, что они не могли усвоить себе священное писание, особенно Евангелие, которое он читал им, а они, вместо того, чтобы слушать, только о том и думали, как бы он не оттаскал их. Чтобы увеличить доходность полевого хозяйства, он придумал оригинальную меру, которой гордился, пока не осуществил ее и не потерпел фиаско. Мера состояла в том, что он решил засадить целое поле горохом, именно засадить, а не засеять. Для этого по всему полю сделаны были узкие грядки и на каждую из них сажались на известном расстоянии горошины, но не прямо в землю, а в длинную трубку, сделанную из газетной бумаги. Нижний конец такой трубки вставлялся в лунку, сделанную в земле, через верхний опускалась горошинка и сверху засыпалась землей, а потом трубка привязывалась мочалкой к воткнутой палочке. Опыт был неудачен: после первого же дождя все бумажки слиплись, не дали возможности горошинкам дать ростки. Кого он обвинял в неудаче - не знаю, но только не себя. Это был тот самый Введенский, который предлагал мне купить у него корпию, оставшуюся у него на чердаке не отосланной во время Севастопольской войны и данную ему родственниками. Скаредность и неразборчивость в средствах к наживе была, кажется, его главным свойством, хотя оно, это свойство, было и у других помещиков, но у Введенского оно было развито особенно сильно.
Другие обитатели Путятино Еще были помещицы, жившие рядом с больницей, настолько близко, что иногда можно было расслышать многое, что у них говорилось. Это были три заматерелые девицы Климовы, настолько злые и бранчливые, что даже мужики не решались вступать с ними в ссору: забранят такими скверными словами, что мужику не под силу возражать. Одна их сестра, уже четвертая, жила в другом доме, будучи замужем за землемером Милашевичем. Странная судьба этого семейства Климовых! Отец их, купивший Стурмово владение, был застрелен из ружья в своем доме; сын его, брат злых девиц, судился за убийство ямщика, с которым ехал, но был оправдан, а потом при мне уже судился опять за убийство, но уже был обвинен. Племянник его и сестер, сын Милашевича, после дифтерита скарлатинозного почти совсем оглох, говорил каким-то нечеловеческим голосом и в одно утро убил мать, замужнюю сестру и работника, желая выгнать из них сатану, как он говорил. Орудием убийства он избрал тот громадный землемерный знак, которым выжигают на столбах казенный герб. Последнее дворянское семейство, жившее в Путятине - это Кульберг, мать, дочь и сын. Мать очень гордилась тем, что она воспитывалась в Екатерининском институте, а дочь была очень молодая красивая женщина, замужем за судебным следователем Никитиным - хорошим следователем и прекрасным человеком во всех отношениях. Он потом был назначен членом окружного суда где-то на юге - в Ростове-на-Дону или в Новочеркасске. Теперь, когда я пишу это (август 1921 г.), от всех прежних дворян в Путятине осталось лишь два брата Стурма, дети Ивана Николаевича, которые значительно обеднели, живут, едва-едва сводя концы с концами. Это внучата того Стурма, который был женат на Долгорукой и который был избираем дворянством на должность предводителя, как богатый человек. Остальные исчезли без следа. Впрочем, остался один из Климовых, он же Милашевич 2-й, который за убийство матери, сестры и работника признан Рязанским окружным судом неизлечимо больным, сумасшедшим и навсегда помещен в дом душевнобольных в селе Галенчине, где находится и до сих пор, стало быть, больше 30 лет. Кроме дворян в селе имели большое значение разжив-шиеся мужики, теперь ставшие купцами; из них самую видную роль играл Яков Тер. Чернышев, снимавший у дворян рощи и леса на сруб и поставлявший дрова на Рязанскую железную дорогу. Когда я приехал в Путятино, он был уже очень богат, имел капитал в полмиллиона и много земли, которую, однако, продолжал скупать, если представлялся удобный случай, т.е. дешево. Другие купцы, а их было немало, занимались скупкой и ссыпкой хлеба (ржи и овса), отправляли его на Оку, а потом продавали или в Рязани, или в Москве. Они быстро богатели и лучшие земли, раньше бывшие дворянские, теперь принадлежали им. Два из них (оба Поповы) имели даже здесь свои лавки или магазины, в которых можно было найти все нужное в обыденной жизни, кроме кожи и тканей. Один из них даже построил на свой счет новую каменную очень хорошую церковь, против больницы, но уже дети совершенно разорились - проигрались в карты. Вообще, село Путятино и было-то небогатое, а теперь оно стало много беднее прежнего, почти разорилось, отчасти вследствие пожаров, а частью и потому, что оно было всегда полупьяное, земля его неурожайная, способы обработки отвратительные, предприимчивости у населения никакой не было. Даже в тех случаях, когда во время пожара сгорело больше 100 дворов, они не переселились на дальние свои земли, а построились тут же и, стало быть, еще теснее; уходить на отдаленные участки не хотели ради здешнего базара, который привлекал их и на котором им нечего было ни продавать, ни покупать. Бывший на базарной площади общественный дом сельское общество сдавало под трактир за 4000 р. в год (1873г.), и вместо того, чтобы вырученную сумму уплатить в виде податей, пропивали ее в этом же трактире в каких-нибудь 3-4 дня. Как ведется дело теперь, я не знаю; должно быть, и трактир стал государственным. Я так много написал о Путятине, потому что это было первое село, в котором мне пришлось жить не временно, а постоянно: ведь я прожил в нем шесть с половиной лет, то есть - все время моей земской службы. И теперь, вспоминая это время, я удивляюсь тому, как я мог там жить: ведь нужно было быть или очень мало требовательным от людей, или быть такими же, как они. Положим, что я иногда не скрывал свое пессимистическое отношение к ним, но все же продолжал жить между ними и, если бы не вышел в отставку, то, пожалуй, жил бы и до сих пор там и, конечно, совершенно бы погряз там. Но случай заставил меня покинуть земскую службу, чему я был очень рад впоследствии, об этом я запишу потом своевременно. Теперь буду говорить дальше все о помещиках, с которыми приходилось иметь дело.
Помещики Сапожковского уезда
Бродовичи Однажды зимой я получил приглашение приехать в село Волковое, верстах в 12 от меня, к старикам по фамилии Бродовичи. Это были очень ветхие старики, более 70 лет каждому. У них был единственный сынок, живший без всякого дела в Рязани. Пригласили они меня потому, что старик заметил утром, что у его старушки нет того блеска в глазах, которым он был поражен при первой встрече с ней, более 40 лет тому назад. Меня спрашивали оба они, что это значит - такая перемена. Осмотревши глаза старушки, я нашел, что она правым глазом уже давно не видит, но не замечала этого, а левым скоро перестанет видеть; в правом была уже зрелая катаракта, а в левом - начинающаяся. Тут и она сказала, что она видит все как в тумане, но приписывала это дыму от трубки, которую постоянно сосал ее супруг. Я сказал, в чем дело, и говорил, что можно помочь горю лишь операцией, но старушка так напугалась самого слова “операция”, что наотрез отказалась от нее, особенно, когда выяснилось, что для этого надо было бы ехать в Москву. - Нет. На это она никогда не решится. Да и как решиться ехать в такую даль, когда она уже около 40 лет не выезжала из Волкова. Даже 30 лет назад, когда они выписали из Вены коляску, чтобы ехать в Рязань, и то она не решилась, так коляска и стоит теперь в сарае, который выстроили над ней. - “Нет. Лучше позвольте мне примачивать глаза розовой водой”. - “Ну, извольте”. Старик за чаем расспрашивал меня, где я жил в Москве, и когда узнал, что это было на Тверской близ Охотного ряда, точно обрадовался этому и рассказал странную историю о том, как во время оно, когда он жил в Москве, в гостинице “Париж”, к нему повадился ездить пить чай Император Николай I. Дело произошло так: “Сижу я летом у открытого окна на улицу в своем номере, пью чай - а я любитель хорошего чая, и слышу крики на улице: ‘‘Ура-ура!’’. Я высунулся в окно, смотрю, что там такое? А это сам Николай едет. Только поравнялся с моей гостиницей, велел кучеру остановиться, подзывает к себе городового. А тут, Вы понимаете? Уже не городовые, а квартальные и пристава бегут. А он спрашивает, почему так хорошо пахнет на улице. А полицейский отвечает: ‘‘Это потому, Ваше Величество, что капитан Бродович при открытом окне чай пьет’’. - ‘‘А где он живет?’’ - спрашивает государь. - ‘‘А вот тут; вон и окно у него открыто’’. Вышел он из коляски - и прямо ко мне в номер. Я как увидел его, так и ахнул; хотел было мундир надеть, а он говорит - ‘‘Оставайся, как есть в халате, и дай мне, - говорит, - своего чайку попробовать’’. Я ему свежего заварил; он попил, стакан выпил и другой, похвалил - ‘‘Спасибо, - говорит, - тебе, Бродович, за твой чай, я еще заеду’’. А я точно одурел. Пока он пил чай, я все время молчал и смотрел на него. Сами понимаете, каково с такой персоной разговаривать. И что же вы думаете, приехал ведь и на следующий день, а потом и каждый день. Надоел даже под конец’’. Интересно было бы знать психику Бродовича и то, как сложилось у него мнение, что подобное происшествие сколько-нибудь правдоподобно. Он ведь рассказывал не мне одному, а каждому, с кем встречался первый раз, а таких было не мало. Во избежание нашествия неприятелей он сделал вокруг своей усадьбы земляной вал и глубокий ров, а на углах вала поставил по пушке, но не успел еще докончить вал весь, с задней стороны усадьба осталась свободной для прохода неприятеля, и во рве не оказалось воды. С течением времени ров стал засыпаться, обрастать крапивой, а земляной вал сгладился. Старушка Бродович в скором времени умерла, а он ездил к ней на могилу ежедневно, подолгу оставался на ней, на ней же и умер. Других таких оригинальных старичков я не встречал. А вместе с тем они были и бережливы: после старухи осталась почти целая комната, наполненная холстами, пряжей и шерстью. Для чего все это добро собиралось, тщательно сберегалось - она и сама вряд ли знала, а собирала.
Губины Недалеко от Бродовичей жили братья Губины. Их было трое, у каждого свое имение, и не дурное, но головы у них у всех были дурные. Первый из них, Лев Алексеевич, владел порядочным лесом в такой местности, где леса мало, и, стало быть, мог выручать с него большие доходы. Но он нашел нужным заложить свое имение в банк и на полученные деньги купил разных вин и закусок в таком количестве, чтобы хватило на целый год. Привез он целый транспорт и объявил знакомым, что будет угощать их, пусть только приезжают. Ну, конечно, поехали - и пили, и ели - и кончилось тем, что не через год, а гораздо раньше все съели и перестали ездить. Вновь покупать было не на что, денег не было. А потом это бессердечное учреждение - банк - начал спрашивать проценты, их платить не было возможности, и банк продал имение с молотка за бесценок, а Льва Алексеевича выгнал вон. Кончил жизнь Лев Алексеевич очень печально: от всего его состояния у него остался лишь один довольно длинный полушубок, наподобие подрясника; в нем он ходил постоянно; у него не было даже и рубашки. Жил он в Сапожке, где состоял сторожем при городском училище, топил печи, подметал классы и был беспечен, как и раньше. Брат его, Андрей Алексеевич Губин владел очень хорошим имением на большой дороге, в котором было около 600 десятин, почти сплошь чернозема, был и лес. Он задумал пуститься в коммерческое предприятие, заложил имение в банк, получил за него хорошие деньги и начал раздавать направо и налево из процентов, без всякого разбора. На эту мысль его, по-видимому, натолкнул сосед его, Мих. Мих. Коринфский, “ходячий банк”, как его звали, который занимался не столько хозяйством, сколько денежными операциями - выдавал деньги даже дорогой в поле, так как возил деньги всегда с собой, и тут же у него была всегда чернильница с чернилами и пером и бумага, на которой можно было написать расписку. Этот-то Коринфский и соблазнил его. Но Губин не подумал того, что он еще не совсем потерял совесть, как Коринфский, и что Коринфский хорошо знал, кому можно дать, кому - нельзя, и что за получением процентов он являлся всегда в тот самый срок, когда наступала уплата, или срок по уплате всего долга, или одних процентов и переписке документов. А Губин был ленив для этого, давал деньги всякому, кто спросит, не справляясь об его кредитоспособности. И потому дело дошло до того, что однажды к нему явилась старуха из отдаленной деревни, просившая у него двадцать пять рублей на свои похороны, так как денег у нее не было, а она чувствовала, что скоро умирать, и, стало быть, похорониться не на что, а здесь, люди говорил ей - раздают деньги зря. Просьба старухи была до того как-то нелепа, что даже и Губин понял это и, давши ей двугривенный, выпроводил просительницу. Затем вздумал продать имение и на вырученные деньги купить в Москве дом и жить его доходами. Ему давали очень хорошую цену за имение, но он не продал его тому лицу, которое предлагало эту цену, так как оно было ему несимпатично, а продал одному купцу за цену на 2-3 тысячи меньшую, чем та, которую ему давали несимпатичные люди, получил деньги и отправился в Москву. Остановился, конечно, в хорошей гостинице и от нечего делать отправился в Окружной суд. Там он попал в гражданское отделение, где в это время должны были происходить торги по продаже домов, и стал читать объявление о продаже назначенных домов - заложенных, перезаложенных и за которые не платились уже проценты. Неизвестные ему лица, как потом оказалось, специально занимавшиеся аукционной торговлей, заметили его, подошли к нему, заговорили и спросили, не желает ли и он принять участие в торгах. Он, конечно, сказал, что за тем и пришел. Не желая иметь конкурента, который может возвысить цену на аукционе до нежелательных для них размеров, они предложили ему 400 рублей с тем только, чтобы он ушел из суда. Он деньги взял и ушел. Это ему так понравилось - получение 400 рублей без всякого труда, что через несколько дней он пришел опять в суд. Недавние знакомцы встретили его радостно; торгов в этот день не было, и они повели его в буфет, и, когда он немного выпил и разговорился правдиво, они узнали, что он за птица, и решили возместить свои 400 рублей, которые так опрометчиво дали ему. Они предложили ему купить дом на Кузнецкой улице в Москве, но для покупки его нужно было ехать в Петербург в тамошний суд. Он согласился, поехал с ними, но они там на вокзале передали его какому-то новому лицу, совершенно ему неизвестному, и сами скрылись. Новое лицо повело его в суд, торги состоялись, дом на Кузнецкой улице остался за ним; оно его поздравило, т.е. новое то лицо, попросило с него магарыча за покупку, получило 100 рублей и ушло. Получивши документы на купленное владение, Губин уехал в Москву и там на Кузнецком мосту ходил довольно долго, расспрашивая городовых, где тут такой-то дом. Городовые не могли указать, и, наконец, один из них, что-то подумавши, просил показать ему петербургский документ, в котором было сказано, что он купил с торгов деревянный дом на Кузнецкой улице. Тут все сомнения разрешились - городовые объяснили, что на Кузнецком мосту нет ни одной деревянной постройки, а Кузнецкая улица находится за рекой, там все почти деревянные дома, туда и идти нужно. Он пошел туда и нашел свою покупку. Оказалось, что это деревянный двухэтажный дом, населенный мелкими разными мастеровыми, не дающий убытка лишь в том случае, если все квартиры заняты. Дохода же он не дает никакого и требует много ремонта; покупщиков на него нет. Так наш Губин и остался непричем. Ему оставался единственный выход - не платить никому проценты по лежащим на доме долгам, а потом, когда его самого погонят, придется не сопротивляться и бежать, что он и сделал. Но он и тут не унялся, а поехал в Калужскую губернию, где жила сестра его, и там повел какие-то уже темные дела с покупкой и продажей имений, даже не существующих. Чуть-чуть не попал под Уголовный суд, но как-то выпутался и возвратился в Сапожковский уезд, чтобы здесь кончать дни свои на попечении своих племянниц, учительниц в земских школах. Сын его, Петр Андреевич - очень порядочный человек, рано женившийся, обремененный семьей, отлично сознавал несостоятельность своего родителя, не позаботившегося даже о том, чтобы дать сыну образование, когда на то была возможность, были и средства. Этот Петр Андреевич служил в Правлении Рязанской железной дороги, получал скудное жалованье и жил очень бедно. А ведь можно было бы жить хорошо, ведь, при безобразном хозяйничаньи, все же имение давало от 5 до 6 тысяч чистого дохода, не считая проживания в нем с семьей.
Беры и Протасьевы В 6-ти верстах от Путятина жило семейство Бера. Оно состояло из отца, матери и четырех сыновей, из которых трое младших служили лейб-гусарами, а старший , уже немолодой человек, раньше учился в училище Правоведения, но заболел падучей болезнью и взят был из училища и с тех пор оставался дома. Это был честнейший и добрейший человек, какого можно себе вообразить; он не стеснялся никем и ничем, если слышал какую-нибудь неправду, и потому бывал иногда очень резок и неукротим в выражениях. Он верил в искренность и нравствен-ную чистоту людей и возмущался, когда ему приходилось сталкиваться с противоположными явлениями. Припадки падучей болезни оставили его лишь за несколько лет перед смертью, уже за 50 лет, а до тех пор являлись почти ежемесячно, целыми сериями, и по окончании их он оставался иногда целую неделю в полусонном, разбитом состоянии, не понимая всего того, что говорилось вокруг него. Конечно, он остался холостяком, а остальные братья женились. Отец их, Николай Иванович, был уже очень преклонного возраста, когда-то был военным врачом, кончил курс в Московском университете и совсем еще юношей - тогда ведь рано кончали университет, был отправлен в армию, ведшую войну с Турцией, это было в 1827 году. Потом он, по возвращении в Москву, служил в Мариинской больнице, лечил в одной дворянской семье дочь, вылечил ее, а потом увез и женился на ней. Родители молодой жены негодовали главным образом за то, что он, врач, осмелился увезти их дочь; он - такое ничтожество в обществе, а они - гордые, родовитые дворяне. Молодым было отказано от дома и на прокормление им дано подмосковное имение Медведево, на доходы с которого они и жили. После смерти родителей им оказывали помощь братья Протасьевы - она была урожденная Протасьева, а после смерти братьев Беры унаследовали все их состояние. А состояние это было огромное, и после дележа его с сестрой на две части, все же на долю Беров досталось около 5000 десятин земли в Сапожковском уезде. Состояние их было огромное, но и долги на нем лежали тоже немалые. Произошло это потому, что последний из братьев Протасьевых, живший в деревне, был холостой и от скуки, не находя лучше занять себя, устраивал иногда званые обеды. Для этого он рассылал по всем дорогам, идущим от его владений, верховую стражу и всякого дворянина, ехавшего по дороге, стража арестовывала и приводила в барский дом, где он должен был оставаться до окончания пира - иногда неделю, а то и больше. Конечно, рассылались гонцы и к таким людям, которые не выезжали в это время, а сидели у себя дома. И вот, когда гостей было достаточно, по мнению Федора Михайловича, начинался пир, выпивалось по несколько сот бутылок разного вина, не считая водки, съедалось невероятное количество разных припасов, велась чудовищная игра в карты. Конечно, на все это уходили все доходы с имения, и приходилось делать долги. Да кроме того, давались векселя таким лицам, у которых никогда и денег-то не было, например, девицам и молодым женщинам. состоявшим при доме в разных должностях; такие лица впослед-ствии обзаводились поместьями и жили припеваючи. На имениях Протасьева лежало долгов свыше 100 тыс., но они стоили гораздо дороже. Я когда-то читал книгу под заголовком “Дитя. Повесть из оконченного русского дела” Салманова. В ней автор выставляет в крайне некрасивом виде мужа и жену, у которых ничего не было и которые желали приобрести много. У нее, Федосьи Константиновны, злой и коварной женщины, был старший брат, женившийся на молодой особе; через год у них родился ребенок - дочь, которая и дала основу для повести. Нужно было устранить это дитя от наследства после смерти отца, происшед-шей скоропостижно, по-видимому, от отравы. Другой брат Федосьи Константиновны умер раньше. После смерти дитяти, наследницей имений являлась бы тетка со своими детьми, т.е. двоюродными братьями девочки. В повести были указаны многие черты, заставляющие думать, что означенные в ней лица - врач Реби и жена его, урожденная Сатрапьева - суть Беры. Все обстоятельства дела, изложенные в повести, совершенно сходны с тем, что происходило в семье Протасьевых; но только нравственные качества существующих лиц и описываемых совершенно противоположны. В имении Беров была водяная мельница, содержимая в аренде англичанином Реби, которого ненавидел Николай Иванович Бер за одну только фамилию его, что напоминала ему повесть Салманова. Со стариками Бер я познакомился вскоре по моем прибытии на службу, сделавши к ним визит первым, а через них познакомился и со всеми их сыновьями и был все время с этим семейством в самых дружественных отношениях, а потом даже вступил в родство, вследствие известных читателю обстоя-тельств*. Было раньше родства два периода времени, когда моя семья жила в Строевском, а старший из сыновей гусаров крестил у нас почти всех ребят, почему и назывался “бессменным кумом”. Все семейство Беров, хотя они и не получили никакого образования в высших учебных заведениях, были люди образованные, благодаря, главным образом, матери, Надежде Михайловне, которая всю жизнь свою положила на благо детей своих. Отец их в воспитание не вмешивался или был в стороне от этого. Все они говорили на французском и немецком языках, хотя и не знали основательно, например, русскую литературу, но вместе с тем могли поддержать какой угодно разговор, в том числе и литературный. Таково было воспитание, данное им в детстве. Мать их знала людей очень хорошо, была вполне доступна каждому, старалась помочь каждому нуждающемуся. И вместе с тем отлично понимала, что знакомство, связи, дружба приобретаются в юности, сохраняются надолго, и потому устроила детей в аристократический полк, т.е. лейб-гусарский Его Величества, которому, конечно, никогда бы не пришлось участвовать в войне, но все же была служба видная, красивая; в полку офицеры были все люди богатые, со связями, служили не подолгу, и по выходе в отставку проживали или в своих имениях, или занимали какие-нибудь хорошие высшие долж-ности. Их мать, Надежда Михайловна, конечно, все это хорошо учла, сообразила и указала своим детям, а они, в свою очередь, неуклонно следовали ее указаниям. Вообще она имела на них большое влияние во всю ее жизнь. Тот, кто знал Надежду Михайловну так же хорошо, как знал ее я, вероятно, не раз задавал себе вопрос: да неужели это самое лицо, которое описано в повести Салманова под именем Федосьи Константиновны? Возможно ли, чтобы человек мог до такой степени измениться?! А если это и было то самое лицо, то неужели те болезни сына и мужа, которые они выносили много лет на ее глазах, не были достаточным возмездием за преступление, когда-то бывшее? Ведь муж ее страдал такой болезнью, от которой мог умереть каждую минуту; петербург-ские врачи почему-то называли ее pneumonia acutissima. Припадки ее развивались вдруг, внезапно и достигали грозных пределов в течение 1-2-х минут; дыхание стеснялось, учащалось, являлся цианоз лица, терялось потом сознание, и он лишался возможности даже сидеть; спасало его лишь кровопускание, для производства которого был у него всегда особый человек, цирюльник, ловко выполнявший свою обязанность. Хотя вся процедура кровопускания производилась быстро, но во время особенно сильных приступов кровь приходилось выдавливать из вены в виде длинных сгустков. Когда однажды пришлось мне присутствовать при таком приступе, я был удивлен, почему петербургские врачи назвали болезнь острейшим воспалением легкого. Ничего не было здесь, что связано с понятием “воспаление”; явления были нервного свойства, по всей вероятности, происходило нарушение деятельности блужда-ющего нерва, а всю болезнь следовало бы назвать angina pectoris - грудная жаба или, пожалуй, cardialgia. По окончании припадка, когда больной приходил в свое нормальное состояние, у него начиналось обильнейшее отхаркивание мокроты в виде слабого желе розоватого цвета - желе из красной смородины, и при том ни следа обыкновенной мокроты, бывающей при воспалении легкого. Отхаркивание такой мокроты происходило чрезвычайно легко, без малейшего усилия со стороны больного, в течение двух суток, причем на второй день ее было меньше, а в третий день он отхаркивал ее глубокую тарелку верхом, потому что она не растекалась, а задерживалась как студень. При выслушивании груди на третий день всюду было чистое везикулярное дыхание, без малейших хрипов, при нормальном дыхании и нормальном пульсе. Ввиду того, что ему нужно бывало выпустить не менее тарелки крови, пока дыхание начнет улучшаться, - да и оттого ли оно улучшается, что уменьшается количество крови - и ввиду его 70-ти летнего возраста, при чем частые потери крови нежелательны, я предложил больному обзавестись так называемой “чудо банкой” Жюно, которая быстро оттягивает кровь на ноги под кожу и оставляет ее там. Эта банка имеет вид сапога, сделанного из толстого листа меди, на верхнем краю голенища у нее плотно приделана широкая резина, которая вплотную обхватывает ногу, а на одной из сторон приделан насос с краном, с помощью которого из надетого сапога выкачивается воздух. Действие этой банки настолько быстро и сильно, что однажды я испробовал ее на себе и через четверть или половину минуты после выкачивания воздуха из сапога почувствовал головокружение. Петербургские врачи, все светила тамошней медицины там, одобрили эту мысль, заказали банку, применили - и результат получился настолько хорош, что наш больной уже не расставался с банкой и, если раньше он постоянно сидел дома, теперь начал выходить и выезжать в сопровождении человека, носившего банку с собой. Это предложение мое, одобренное в Петербурге, подняло очень высоко в глазах всех Беров мои знания и положение как врача, которое и оставалось высоким. Я получил от них немало материальных выгод. Когда они переехали совсем в деревню, они предлагали мне быть у них постоянным годовым врачом, но я, не желая связывать свою свободу, уклонился от этого предложения, приезжал к ним всегда по первому же пригла-шению, если оно заставало меня дома. У них было много родни, все со стороны Надежды Михайл-овны и немного со стороны Николая Ивановича, все они (род-ные) были не похожи ни на Губина, ни на Стурмов и другие подобные типы. Жило здесь еще семейство начавшего разоряться, когда-то очень богатого помещика, Василия Андреевича Протасьева. Он был очень образованный человек, знал несколько иностран-ных языков, служил в гвардии, владел огромными лесами и полями. Во время Севастопольской войны снарядил и содержал на свой счет Сапожковское ополчение, но участвовать ему в бою не пришлось, а на возвратном пути его с юга он в гор. Ливны заболел тифом и по выздоровлении совершенно потерял память - он помнил отлично все то, что было до его болезни, и забыл то, что было и вчера и сегодня. Иностранные языки не забыл, потому что изучал раньше. Ко мне потом присмотрелся, знал, что я доктор, но имени моего никогда назвать не мог. Конечно, управлять имением он не мог, все дело взяла на себя его жена, прекраснейшая дама для гостиной или зала, но совершеннейший ребенок в смысле хозяйства. Сама она это вполне сознавала и потому брала управляющего и все попадала на таких, которые хорошо понимали, с кем имеют дело, и заботились главным образом о своем благоденствии. Они довели ее до того, что она продала за бесценок прекрасный лес, который теперь (10 лет назад) оценивался по 3000 рублей за десятину, а его было 1000 десятин; также продала другой лес на сруб богачу мужику Чернышеву, который срубил его и получил колоссальный барыш. При моем приезде у них была лишь тень прежнего величия и довольства. Василий Андреевич Протасьев был троюродным братом Надежды Михайловны Бер (урожденной Протасьевой), и Надежда Михайловна старалась сосватать мне их дочь, Елизавету Васильевну, очень милую и добрую особу. За принятие предложения моего она ручалась - иначе говоря, между домами уже решен был этот вопрос в положительном смысле; все дело было за мной. Я уклонился от согласия сделать предложение, под каким-то благовидным предлогом. Впоследствии Елизавета Васильевна вышла замуж за Истонского, члена таможни где-то на австрийской границе, раньше служившего в <....> уезде акцизным чиновником, а окончившего службу Симферопольским вице-губернатором. Они дожили до старости, не вынося друг друга, и наконец разошлись совсем, совместная жизнь их была невозможной. Семьи у них не было. Брат Елизаветы Васильевны, Николай Васильевич окончил курс в училище Правоведения, служил сперва мировым судьей, а потом, постепенно повышаясь, - губернатором в Томске, Петрозаводске, Самаре, и, наконец, в Харькове, где и умер от тифа, заразившись им в вагоне с тифоз-ными, привезенными с войны. Эта смерть была жертвой совер-шенно ненужного, ни к чему не ведущего строгого исполнения служебных обязанностей. Дело в том, что во время войны 1914 года Управляющий Санитарной частью по всей армии принц Ольденбургский, по великому своему разуму, предписал всем губернаторам непременно проходить через весь состав поезда с больными, пришедший в их город, но с какой целью - не сказал, а требовал, чтобы это неуклонно исполнялось. Причем напоминал, что это делается в военное время начальством, стало быть, неисполнение такого предписания грозило особыми последствиями. Когда в Харьков прибыл санитарный поезд, в котором половина вагонов была занята тифозными, Протасьев прошел его весь. Назавтра он слег в постель, а недели через две умер, несмотря на свое крепкое здоровье и атлетическое сложение. Он похоронен в Новодевичьем монастыре в Москве. Другие два брата его ничем не выдавались. Все они были моложе меня, что видно уже из того, что когда мать их везла в Петербург для определения в разные училища, я, как врач, писал им всем свидетельства о привитии оспы. Правдивость и абсолютная честность были основными чертами всех членов этого семейства Протасьевых: когда они обеднели настолько, что нуждались в самом необходимом в жизни, например, в дровах для топки печей зимой, в чае, который не отпускали в долг путятинские лавочники, никто из них не пошел ни на какую нечистую сделку, хоть к тому представлялось много удобных случаев. Мамаша их до старости осталась светской дамой - певицей и музыкантшей, ребенком в жизненных делах, чем и пользовались многие. В той же местности в Протасьевском Углу жил другой Протасьев - Федор Васильевич, старый холостяк, спустивший огромное имение в Новгородской губернии. Он был завзятый псовый охотник, держал массу борзых и гончих собак, верховых лошадей, при них несколько охотников, имел винокуренный завод, а в доме цыганку из московского табора - Анну Петровну, которая заправляла домашним хозяйством и им самим. Он любил выпить, а выпивши, врал напропалую. Он, например, рассказывал многим, как однажды, будучи в Петербурге, он кутил за городом зимой в загородном ресторане в компании высокопоставленных людей, с которыми потом возвратился в город. Подъехали ко дворцу. Сашка Романов (т.е. Александр II) отогнал от подъезда часовых и с ним - Протасьевым, Гришкой Строгановым и Анатошей Барятинским стали играть в чехарду. Игра продолжа-лась до утра, когда все игроки достаточно устали. Кто складнее врал: Бродович или Федор Васильевич?
Чулков
Жил еще в моем медицинском участке Василий Ильич Чулков, которого я уже не застал, но о котором ходило много свежих еще воспоминаний, как о человеке до невероятия грубом, крепостником чистейшей воды, относившимся к людям хуже, чем к скотине. В одном из наших исторических журналов, то ли в “Историческом Вестнике”, то ли в “Русском Архиве” Бартенева или “Русской Старине”, лет 12-15 назад была помещена статья, в которой Чулков описан довольно подробно и ясно и вполне согласно с тем, что мне рассказывали о нем. Имение его называлось Самодуровка, Чудище, Уродище тож. Этот тип проделывал такие фокусы, описание которых вряд ли возможно на бумаге; его можно было бы сделать лишь на заборе ночью, но и то с боязнью быть судимым за неприличие. Когда мне случалось быть в Самодуровке на барском дворе, я видел там высокий дом в виде башни, сделанный из крепкого дуба и крытый камышом. Это был дом для оргий, которыми забавлялся Василий Ильич, богатый помещик, живший постоянно в деревне. Когда женщинам случалось проходить мимо этой башни, они всегда отвертывались от нее или закрывали лицо платками, настолько было хорошо воспоминание об этом здании. Мне рассказывал многое о Чулкове бывший сосед его, Ал. Вас. Колюбакин, при жизни Чулкова бывший Предводителем дворянства. Между другими рассказами характерен один. Почувствовавши себя очень плохо, он (Чулков) позвал к себе Колюбакина как Предводителя и соседа и обратился к нему с такой просьбой: “Я вот скоро помру, и прошу тебя, сделай мне одолжение, пойди во двор, там около сарая лежит толстый дубовый кряж, вели его сейчас же распилить вдоль пополам и выдолбить обе половины настолько, чтобы из них вышел мне гроб”. - “Помилуйте, Вас. Ил., кто же не бывает болен, как Вы, да не умирает же всякий больной; поправитесь и Вы” - говорит Колюбакин. - “Я вижу что ты, хотя и Предводитель, а дура. Не хочешь исполнить мое приказание - и убирайся”, - причем указал такое отдаленное место, куда убраться было бы невозможно. - “Ну хорошо, хорошо, сделаю. Но только скажите мне, для чего это нужно?” - “А ты смотри, чтобы распилили так, чтобы в крышке не было ни одной щелки. Я ведь хорошо знаю моих подлецов (т.е. крестьян), я им солон пришелся и, когда меня зароют в могилу, они в первую же ночь придут на нее и начнут мочиться (он употребил деревенское выражение), а через рыхлую землю и щели потечет мне на лицо. Смотри, чтобы щелей не было”. Так и было сделано. Предсказание Чулкова сбылось: назавтра же после похорон могила его была не только залита, но даже загажена настолько, что к ней невозможно было подступиться. Вся деревня его, в которой было более 500 душ, пришла сюда справлять поминки по умершему барину, но эти поминки были своеобразные - пришедшие удовлетворяли свои естественные потребности. Так могли отплатить крестьяне своему неумоли-мому владыке. Хотя он и был холост, но после него осталось два сынка, из которых один все играл и играл в карты - и проиграл все, что имел, а другой, известный под именем Свирепки, был хороший стрелок и охотник на волков. Крепостник он был завзятый, не хуже батюшки, монархист настолько, что просил даже московского полицмейстера арестовать его сына - студента университета за то, что у него начинают появляться либеральные идеи и недовольство Правительством. Полицмей-стер не согласился, и папаша под каким-то предлогом вызвал сына в деревню, так как он не хотел ехать из Москвы, и здесь высек розгами. Сын не выдержал оскорбления и застрелился, а отец уверял всех, что всему виной в этом деле те либералы, которым и Сибири мало. Другие два сынка его, более покладистые и легче поддающиеся воле папаши, были потом земскими начальниками в нашем же уезде.
Колюбакин Недалеко от Самодуровки было имение очень известного коннозаводчика Александра Васильевича Колюбакина. Он когда-то учился в корпусе гражданских инженеров, но, конечно, курс не кончил, жил или в Рязани или в деревне, занимался лошадьми и хозяйством; последнее, однако же, он забросил по освобождении крепостных и предоставил это дело или бурмистру, или управляющему, которых он менял чуть ли не каждую неделю, сам же имел лишь верховный надзор за ними. Его хорошо знали и в Москве как вице-президента общества любителей конского бега. Это был умный человек, очень краси-вый даже и в старости, крепостник в душе и на деле, гордившийся своим дворянством, а особенно камергерством, которое он получил еще при Александре II. Он был увлекательный собеседник в отсутствии женщин, хотя и при них не сдерживал свой язык и бывал циничен, но они ему прощали почему-то многое из того, чего не простили бы другому. Он никогда ничего не читал, кроме Московских Ведомостей, имел необыкновенную способность получать деньги взаймы и никогда не платил проценты в должный срок и очень обижался на кредиторов, когда те спрашивали свое, им должное; на женщин, даже на своих дочерей смотрел как на самок и нисколько не скрывал этого. Первую половину жизни он провел очень бурно в Рязани, где позволял себе в пьяном виде ездить перед домом губернатора, сидя голым в экипаже вместо кучера. Все дамы уезда были очарованы им и готовы были бы жить с ним, если бы к тому было его желание. Дом его был замечательно красив, удобен, опрятен; все в нем было на городской манер, чисто, тепло, с большим вкусом. У него был лучший в уезде повар, погреб снабжен лучшим запасом вин. Прислуга была опрятная, дрес-сированная, умелая. Словом, все было на широкую ногу прежнего богатого помещика, хотя он никогда не был богат, но у него было много вкуса во всем и уменье жить и с небольшими средствами. Его конный завод славился всюду, особенно в Москве, куда он возил своих рысаков на бега, где они всегда оставались победителями, особенно знаменитый красивый конь по имени Варвар - серый в яблоках, с белой челкой, гривой и хвостом. У Колюбакина всегда можно было хорошо и вкусно пообедать, отдохнуть, побеседовать на московские темы и удобно переночевать. Но не приведи Бог иметь с ним денежные дела, не строго оговоренные: затягивал, затягивал и затягивал. Он был мировой судья, а раньше - мировой посредник и всегда держал руку помещиков. При конюшне его был манеж, где он сам лично подготовлял лошадей к бегам, а перед домом был ипподром с беговой беседкой. Он был женат уже вторым браком, от первого у него были две взрослые дочери и одна очень маленькая. Старшая дочь очень оскандалила отца, влюбившись в конюха и решившись на побег с ним. Когда отец узнал об этом - гневу его не было конца, а она только спросила отца, чтобы он указал ей, где именно говорится в Евангелии, и вообще в священном писании, что дворянка может полюбить лишь дворянина. Она была очень религиозна, набожна и замечательно некрасива. Его знал весь уезд, все к нему относились с уважением и искали знакомства с ним, и поездка к нему, и обед у него для многих служили потом темой для долгих разговоров и воспоминаний.
Кошелев Теперь мне остается сказать лишь об одном лице, жившем в нашем округе - это об Александре Ивановиче Кошелеве. Но вряд ли я буду в достаточной степени силен, чтобы очертить его. Но попробую. Он был тамошний по рождению и после смерти родителей получил от них в наследство лишь 200 душ с соответственным количеством земли. По тогдашним мерам это было небольшое состояние, но умение вести хозяйство, трезвый образ жизни и известная бережливость сделали то, что состояние его ежегодно росло и росло. Другие помещики после крестьянской реформы разорялись, бросали свои гнезда, продавали последние владения, а Кошелев сидел на своем родовом участке земли и охотно покупал землю у своих соседей. Он довел дело до того, что у него было через 10 лет после крестьянской реформы 40000 десятин земли в одном лишь Сапожковском уезде, а, кроме того, было имение в соседнем Ряжском уезде и огромное - в Спасском Рязанской же губернии. Кроме того, у него был огромный дом-особняк в Москве на Поварской улице и при доме огромный сад. Будучи как-то в Сапожке, я был в Земской управе и в свободные минуты рассматривал книгу по оценке владений, подлежащих обложению земским сбором; в ней значилось, что все владения Кошелева по уезду оценены в 4 700 000 рублей и с этой суммы берется налог. Стало быть, он был богаче всех в уезде, даже богаче казны. Все это состояние, или почти все, было нажито им самим, главным образом при помощи винных откупов и винокуренных заводов, которых у него было два - и в Песочном, и в Михееве. Он был долгое время откупщиком нескольких уездов Рязанской губернии, знал хорошо финан-совое дело, а потому, вскоре после крестьянской реформы, был назначен управлять финансами в Царстве Польском, т.е. был там министром финансов. Это был, несомненно, умный даровитый человек из всех рязанцев, много видевший, много читавший, сам издавал славянофильский журнал “Беседа”, участвовал в аксаковском “Парусе” вместе с Юрьевым. И Аксаковы, и Юрьев и весь славянофильский кружок были его друзьями, и вообще связи его с Москвой были огромные, особенно в литературном мире. Он был скуп в расходах на себя, был скромен в жизни, но довольно щедрый в общест-венных делах, особенно, когда видел, что расходы должны будут принести пользу. Он радостно приветствовал Земские учреж-дения и был постоянно избираем земским гласным и пред-седателем мирового съезда. Он много писал в либеральном духе, был конституционалист, писал по этому вопросу настолько откровенно, что Александр II велел сказать ему, чтобы больше не писал; а он все же писал, но издавал свои труды не в России, а в Германии, в Берлине, откуда они попадали и в Россию. В этом отношении особенно заме-чательна его брошюра под заглавием “Куда мы идем?”, в которой требовалось ввести в России конституцию. Наши министры знали его хорошо, но не трогали, потому что за ним стояли все славянофилы и все славяне балканские, за освобождение которых началась война России с Турцией в 1877 году. В Москве он был постоянным участником в какой-нибудь думской комиссии, так как постоянно был Гласным Думы. Он и умер во время составления доклада комиссии в Думу, сидя за своим письменным столом. В финансовых делах он видел многое впереди, чего не видали другие, и потому постоянно прислушивались к тому, что скажет Кошелев. Все имения в уезде делились на гумна, их было 17 и при каждом было, кроме лошадей, еще по несколько сот быков для работы. Каждым гумном заведывал староста, и на все их было 2-3 управляющих. Главный управляющий и жил у него в Песочне при его же усадьбе и должен был каждый день докла-дывать ему обо всем, что делалось в имениях. Обкрадывали его многие, особенно гуменные старосты, один из которых как-то в минуту откровенности сознался мне в своеобразной форме, что если нажить у Кошелева в год меньше пяти тысяч, то, пожалуй, и Бог накажет. Он, конечно, знал это, но не хотел поднимать дело, может быть, исходя из положения, что не пойманный вор - не вор, а поймать вора было очень трудно: так тонки и разно-образны бывали приемы воровства. Но и в крупных кражах он прощал нередко. Мне говорили много про него тамошние старожилы; говорили между прочим, что он был отчаянный крепостник, хотя и приветствовал крестьянскую реформу, что будто во время откупов у него на заводах проделывались такие вещи, которые наказываются уголовным судом, что будто бы река Пара, на которой стоял его винокуренный завод, унесла с собой под лед, а потом в Оку тех, кто был свидетелем, но не участником проделок и, стало быть, мог донести куда следует. Все это говорили и говорили, а могли ли доказать? Хозяйство его велось по старой трехпольной системе, и никакие нововведения не допускались. Весь хлеб от урожаев с его имений поступал на его заводы, равно и картофель, да еще и покупалось немало хлеба, может быть, своего же, но который невидимым образом стал чужим. Насколько он был скромен для себя лично, может служить доказательством такой пример. Однажды он пригласил меня к себе по поводу болезни его жены. В письме сказано было, что он будет меня ждать к обеду, и что же было за обедом: 1) суп из протертой моркови и 2) рубленая котлета, по одной на человека, а вместо вина - клюквенный морс в бутылках от смоленской воды. И весь обед, к которому ждали доктора, лучше бы не ждали, а сами одни съели. Замечательно в его хозяйстве было то, что он не страховал от огня ни одну постройку, и это делалось не по беспечности или мелкой скупости, как у других владельцев, а по подсчету - он говорил, когда обращали его внимание на это, что страхование ему не выгодно; что ему выгоднее будет, если одно гумно у него сгорит совершенно все, нежели платить страховую пошлину за все 17 гумен, а если страховать не все, а лишь некоторые, то чем же руководствоваться при выборе их. “Если бы я, - говорил он, - страховал все постройки свои за все время моего хозяйничанья ежегодно, то я заплатил бы громадный капитал, на который можно было бы приобрести много земли”. Дом в Песочне, в котором жил, представлял собой настоя-щий дворец: каменный, большой, в два этажа, большие свободные комнаты, без всяких лишних украшений и картин. Мебель была железная, крашеная, без всякой обивки; сиденья на креслах и стульях были из стальных пластин, но очень мягкими, гибкими и красивыми. Где он достал такую мебель, я не знаю; мне до сих пор не доводилось видать подобную где-нибудь. В доме были лишь цветущие растения, а как только они переставали цвести - их относили в оранжерею и заменяли другими - цвету-щими. Он никогда не курил и не особенно любил, чтобы курили при нем, но усиленно нюхал табак. Когда я первый раз увидал его, я был несколько удивлен его видом. Это был человек уже под 70 лет, крепкого сложения с большими волосами, гладко зачесанными назад, небольшой седой бородой, нависшими седыми бровями, в черепаховых очках и с острым взглядом, одетый в русского образца черную суконную поддевку нараспашку, между полями которой виднелась синяя шелковая рубашка, подпоясанная пояском, высокие сапоги без каблуков, но с красной выпушкой по верхнему краю голенища, за которое заправлены черные широкие суконные штаны. При разговоре он постоянно внимательно вслушивался в слова собеседника, держа руки в карманах поддевки. Говорил он всегда громко, вероятно, вследствие небольшой глухоты; голос его был немного хриплый. Больше сказать об его внешности не могу. Если он хотел возразить собеседнику, всегда начинал речь словами: “Дело в том…” и т.д. Он не любил давать деньги взаймы, говоря, что от этого люди могут разоряться, и приводил в пример своего соседа Александра Ивановича Колемина, очень богатого человека Спасского уезда, который, нуждаясь в деньгах и считая себя великим финансистом, занял у Кошелева деньги. Кошелев, желая уважить соседа и не имея свободных денег, предложил ему акции тогда только что отстроившейся Московско-Рязанской железной дороги. Он дал их на крупную сумму по цене около 60 рублей за акцию, как она была на бирже, но с тем условием, чтобы по истечении срока займа они были возвращены ему в том же количестве, какая бы цена на них не была. Колемин взял и сплоховал, потому что, когда пришло время уплаты, цена на акции стояла больше 250 рублей. Колемин, не имея денег, предложил Кошелеву взять за долг большое лесное имение в Спасском уезде (Лакаш) - Кошелев получил огромную выгоду, а Колемин - убытки. Он вообще не отказывался покупать имения, и в своей жизни, как он сам мне говорил, он проглотил тринадцать помещиков, т.е. скупил их земли. Он был до точности аккуратен в назначении времени, в которое он намерен сделать то или другое дело. Например, уезжая из дома в Москву, он всегда говорил, что он возвратится такого-то числа, во столько-то часов, и действительно, всегда так выходило, хотя станция железной дороги была от дома в 50 верстах. Его возмущало то, что земские гласные дворяне собирались довольно поздно, иногда лишь к 11 часам, а, послушавши часа полтора - два доклады, уходили в другую комнату - буфет и проводили там немало времени вместо того, чтобы заниматься делами, для которых собрались. Но свое возмущение он не высказывал, а только покашливал и усиленно нюхал табак. В Сапожке у него был свой дом небольшой, в котором он жил во время приездов в город, и жена его тоже приезжала часто из деревни, где ей не было положительно никакого дела, а тут у нее была гимназия, созданная на ее личные средства, в которой она была и попечительницей. Гласные избирали его во все комиссии, хорошо зная его работо-способность, отсутствие которой было почти у каждого из них самих. Насколько был умен он сам, настолько же был глуп, непрактичен и ни к чему не пригоден его единственный сынок Иван Александрович. Он никогда ничего не делал, а только проживал большие деньги, в которых, кажется, отец ему не отказывал. В молодости он проделывал невероятно глупые дела. Например, за несколько лет до крестьянской реформы, отец купил ему много земли в Саратовской губернии и отделил много душ мужицких из рязанских владений. И вот однажды этот сынок, не посоветовавшись с отцом, вздумал переселить рязанских мужиков на саратовские земли и послал их туда зимой; те со всем своим имуществом отправились туда, думая, что для них барин заготовил там жилье, и, приехавши, не нашли ничего, кроме ровных полей, занесенных снегом, побродили по ним, захотели есть, съели все, что у них было для себя и скотины, потом продали и скотину и имущество и возвратились пешком на старые места. А помещик оправдывал свой поступок тем, что он полагал, что мужики догадаются сами, что им нужно было вырыть землянки, прожить до весны, а весной построиться. Но из чего построиться в степи, где нет никакого строительного материала и чем питаться зимой - об этом он не подумал. Почти половина переселенцев не возвратилась - они погибли или там на месте, или дорогой. Он любил бывать за границей, большую часть года проводил там, конечно, без всякого дела, проживая лишь деньги на женщин, и имел постоянных любовниц в Берлине, Париже и Неаполе, которые ему очень дорого стоили и все же требовали от него еще и еще денег. Это праздное житье-бытье сынка дорого обходилось старику-отцу, но он все же давал и лишь пригова-ривал, что пора бы уже все это оставить, но сынок не оставлял. Тогда отец надумал женить его - и женил, но и это не помогло: старые привычки не могли измениться, а расходы стали расти еще больше. Он не играл в карты, не занимался никаким спортом, стоившим денег, не скупал дорогих произведений искусства, не пьянствовал, но, конечно, ел отборную еду, а проживал столько, что этих денег хватило бы на много семейств выше среднего положения. Кажется, в его глупом прожигании жизни его поддерживала мать, такая же глупая, как и он - она одобряла его поведение. После смерти отца Ивану Александровичу достались мил-лионы - дом в Москве, 40 000 десятин в Сапожковском уезде, несколько тысяч акций Рязанской железной дороги и свободные деньги. Долгов на имениях у старика не полагалось - и не было ни копейки. И вот с такими-то средствами сынок задумал пуститься в коммерческое предприятие, не имея об нем ни малейшего представления. Он задумал устроить ректификационный завод, очищать водку и торговать ею, видя перед собой таких винных торговцев в Москве как Смирнов, Шустров и др., захотел конкурировать с ними, давнишними водочниками. Он стал скупать весь спирт, который привозился в Москву, платить за него дороже, нежели старые московские виноторговцы, лишь бы покупка не досталась им, желая тем убить их торговлю и потом сделаться самому винным моно-полистом в Москве и окружности ее. Но упустил из вида то, что, когда в Москву не привозился спирт на продажу, московские торговцы покупали его на месте производства, если нуждались в нем. Он устроил завод в Москве, где-то поблизости Басманных улиц, завод пошел недурно, водка получалась настолько хороша, что некоторые считали ее даже лучше смирновской, но торговля шла плохо, т.е. торговцы сдавали не всю выручку в кассу завода, а бывали случаи, что вместе с выручкой исчезали, не оставляя за собой следа. На покупку спирта нужны были деньги - их не было, но были незаложенные имения, их-то он и заложил в банк за полтора миллиона, а когда нужно было платить проценты в банк, стал прибегать к займам мелкими суммами у разных лиц, в том числе и своих же служащих. Занял деньги и у сестры Беклемишевой до полумиллиона, обманул ее коварным образом, а потом, когда занимать уже было негде, а кредиторы стали требовать свое, ему осталось скрываться и он бежал за границу, где года через два, будучи совершенным бедняком, умер в берлинской больнице Charite, и все состояние его распалось. То, что наживалось отцом его половину столетия, в его руках исчезло в 4-5 лет. Замечательно то, что на спирте главным образом нажитое состояние, на нем же и распалось, хотя были для этого и вспомогательные средства, как, например, ремонт московского дома, причем ремонт, например, каждого окна обошелся в 15 тысяч, а дом и без ремонта был одним из лучших особняков в Москве. Жена этого сынка и дочь после его бегства жили в Москве очень бедно, получая от глупой свекрови лишь 15 руб. в месяц. Лишь случайно судьба им поблагоприятствовала. Дело было в том, что, когда Иван Александрович вынужден был заложить все свои имения в банк, он выгреб из конторского ящика документы, которые там хранились, - планы и доказательства на принадлежность имений ему, но где-то вдали ящика, в особом месте были документы на отдельное имение на границе со Спасским уездом, называемое Паршиным. Иван. Алекс. не знал даже, что это имение его, хотя в нем было 600 десятин, и не заложил. Живший там староста не давал ему никаких отчетов, все налоги, следующие с имения, вносил куда следует от своего имени, надеялся на то, что по истечении 10-ти летнего срока имение сделается его собственностью. Так бы и случилось, если бы он не проболтался под пьяную руку, чем воспользовались завистники, сообщили жене Ив. Алекс., началось дело, старосту прогнали, она, т.е. жена Кошелева, имение продала и стала богата. Имения, стоившие по земской оценке 4 700 000 руб., а по действительной свыше 10 миллионов, были заложены за полтора миллиона и за эту сумму остались за банком, хотя владелец мог во всякое время взять дополнительную ссуду на сумму втрое-вчетверо большую, но не догадался, или это ему уже надоело и он не захотел беспокоиться. Конечно, ему помогли в разорении и близкие люди, между которыми был и двоюродный братец его Александр Алексеевич Кошелев, управлявший в Варшаве отделением ректификационного завода и составивший себе кое-что на прожиток в будущем. Дом на Поварской улице достался сестре Дарье Алексан-дровне, которая была замужем за Беклемишевым, тоже стяжавшим себе недобрую славу по службе своей в Сибири, о чем тоже писалось в журналах. А в Москве, между иностран-цами, особенно бельгийцами, он стал известен тем, что ловко облапошил бельгийскую компанию, устроившую в имении жены его, Лакаше, завод для выделки зеркального и оконного стекол. Он так глупо и подло вел дело против этой компании, что она должна была бросить все дело, все имущество завода и бежать, а он раньше успел продать по высокой цене акции этого общества, за которые он не заплатил ни копейки, как владелец земли, на которой расположен завод. Дворянский банк, оставивший за собой ему заложенное, распродавал землю небольшими участками, но все же ее осталось много, и она перешла в руки казны, которая устроила в Песочне сельскохозяйственную школу. Как памятник от Кошелева осталась только лишь женская гимназия в Сапожке.
Эмме Я должен еще сказать немного о Карле Карловиче Эмме, о котором раньше лишь упоминал вскользь. Раньше он был военным инженером, жил довольно хорошо. В Петербурге женился на немочке, имевшей большое имение в нашем уезде, и переехал сюда на постоянное жительство. Он застал здесь еще крепостное право, но никогда не позволял себе пользоваться им, как его соседи-помещики; был либеральный, гуманный человек, много читавший, хотя и не имевший библиотеки. Он был мировым судьей и всегда клонил тяжущихся в примирению, был справедливый судья, почему мужики и звали его “дядя Карля” или “Карлуша”. Живя более чем полжизни в деревне, он не знал сельское хозяйство, вел его по старому обычаю, потом заложил имение в только что народившемся, так называемом “Золотом банке” и, не имея детей, все же сумел разориться, главным образом, на винокуренном заводе и карточной игре, которую вел неудачно. В этом последнем деле ему помогал и брат его, педагог в Петербурге, у которого там был даже свой дом, потом проигранный, содержимый им пансион был закрыт. Карл Карлович много платил за брата, а потом и сам обеднел. После смерти жены своей он женился вновь, взял за женой состояние (она была урожденная Стерлигова), но и это не помогло; он продал лучшую часть имения первой жены, оставил себе лишь часть леса, построил там хутор и при нем дом из старых амбаров и через несколько лет умер на руках жены от дифтерита гортани. Он был веселый, остроумный человек, сочувствующий молодежи во всех ее искренних, честных стремлениях, сам он не выходил из границ возможного. Я возвратился в своем воспоминании к нему потому, что моя судьба сложилась так, что она была отчасти связана с его домом. В первое же время моей службы я увидал, что акушерская помощь в деревне крайне необходима, что под влиянием бабок-повитух гибнет много родильниц, а еще больше калечится на всю жизнь. Я сообщил свое мнение Карлу Карловичу, он разделил его, и мы составили доклад в Земское собрание о том, чтобы пригласить на службу земства акушерок, окончивших курсы при родильных учреждениях и имеющих право лечить сифилис у женщин. Такой школой была школа при Калин-кинской больнице в Петербурге. Ближайшее земское собрание сделало постановление о том, чтобы со следующего же года были приглашены акушерки, числом три, на службу земства. И вот Карл Карлович, как попечитель больницы, привез с собой одну из таких особ, которая приехала задолго до 1-го января, когда она могла бы занять акушерское место, и потому согласилась быть у него в должности письмоводителя (он был судья). Эта особа была Антонина Николаевна Вихляева, впоследствии моя жена, с которой мы прожили около 50 лет. Он же, Карл Карлович, вел переговоры со священником, он же был и нашим посаженным отцом и он же устроил нам свадебный ужин в своем доме и потом нередко навещал нас, а затем, вероятно, соблазнившись нашей жизнью, женился и сам вторично.
Бырдин Некоторые из дворян служили здесь же - или в долж-ностях по выбору, как судьи и мировые посредники, или по назначению от губернских властей - урядники, становые, исправники. Не могу умолчать об одном мировом посреднике, который был в моем медицинском участке. Это был сын бывшего меншиковского управляющего в селе Чучково, служивший при крепостных в военной службе, а в эпоху крестьянской реформы вышедший в отставку, вполне усвоив себе все приемы мордобития и порки. Он был, однако же, честным в дворянском смысле и не допускал, чтобы дворянин делал бесчестный поступок, например, обман. Это был Сергей Александрович Бырдин. Он был настолько справедлив, что чуть не отдал под суд родного отца за то, что при написании уставной грамоты (так назывался документ по отводу земли крестьянам) включил в нее выражение или условие, выгодные для помещика, но очень невыгодные и даже стеснительные для крестьян, которые впоследствии было бы невозможно исправить. Дрессировал он мужиков ужасно и требовал от них, чтобы они, приходя к нему по делу, говорили бы: “Я - такой-то деревни и волости, по имени такой-то, прошу о том и том -то…” - без всяких лишних слов и пожеланий. После нескольких зуботычин, даже с кровопусканием, мужик понимал, что нужно было барину, и коротко и ясно выражал свою мысль. За всякую провинность он беспощадно драл мужиков, особенно, сотских и старост, если они совершали промахи по службе или уличались во взяточничестве. Перед мордобитием он всегда приказывал снять знак с груди, означавший должность. Доставалось от него и старшинам, которых он выдерживал под арестом иногда целыми неделями. Волостные писаря, как люди, наемные волостью, боялись его, как огня - их он не порол, а бил нещадно. Вместе с тем, он отстаивал интересы крестьян и в достижении своей цели не стеснялся никакими служебными препятствиями. Об этом скажу позже. Однажды я возвращался домой и был уже в своем селе, но тут дорога, по которой мне нужно было ехать, оказалась занятой громадной толпой народа, стоящего перед волостным правлением, на крыльце которого стоял Бырдин, только что окончивший свой суд и расправу. Тут он, обращаясь к народу, говорил, что до сих пор и бил, и драл их, - “но теперь я обещаю вам - при этом он снял шапку и перекрестился на церковь - и клянусь, что не ударю никого из вас, не выпорю, но буду безжалостно штрафовать вас и арестовывать”. Затем он сел в тарантас и хотел ехать, но народ не дал ему отъехать и несколько сажен, остановил лошадей. Многие стали на колени, и все просили, чтобы он снял с себя клятву, только что произнесенную перед церковью, говоря: “Нет, батюшка, Сергей Александрович, мы ведь знаем, что ты справедливый, стоишь за нас, пори тех из нас, которые того заслуживают, но только не штрафуй, не сажай под арест”. Он умилился этой просьбой, снял с себя добро-вольную клятву и уехал. Но порол уже мало. Я сам был свидетелем этой сцены, потому что, только когда толпа разошлась, я смог проехать. Был случай, что в Сапожке, в Земском собрании, многие хотели, по инициативе Кошелева, выбрать в почетные мировые судьи Еф. Дм. Ускова, городского Голову, человека полу-грамотного, как он и сам сознавал это и высказывал. Для этого, по закону об избрании нужно было единогласное избрание. Когда председатель собрания сказал, что он просит встать тех, которые согласны на избрание, и что оно должно быть единогласное, Бырдин, сидевший рядом с Кошелевым, переспросил председателя о законе избрания и не встал. Все готовы были сказать, что Усков избран, но председатель сказал - “Нет, не избран”. Кошелев спросил: “Кто же не встал?” Ему показали на его соседа, и он удивился, а Бырдин спокойно спросил всех: “Как же может быть судьей человек неграмотный, каким сам Усков признает себя?” Все молчали. Был еще такой случай в служебной деятельности Бырдина. С давних пор в Сапожке стоял эскадрон гусар, которые на лето вывозились за город и там размещались, а казенные лошади паслись на крестьянских землях. Эскадрон за это ничего не платил крестьянам. Бырдин, как мировой посредник, начал ходатайствовать за них, чтобы им платили за постой и за пользование кормом для лошадей. Эскадронный командир отказал; Бырдин обратился с прошением к полковому командиру - отказал и этот. Бырдин пошел дальше, дошел до военного министра - и тут отказ. Тогда он воспользовался пребыванием Александра II в селе Архангельском или Ильинском под Москвой и отправился туда к Государю с прошением. Прямо к Государю его не допустили, а только доложили о том, что у него есть прошение к Государю, и велено было дежурному генералу принять прошение, которое тот передал Александру II в саду. Бырдин видел через окно, что Государь сам читал его прошение, потом говорил что-то с дежурным генералом, который, возвратясь в приемную, заявил Бырдину, что Государь нашел его прошение законным и велел удовлетворить. Недели через 2-3 получено было официальное сообщение из Петербурга о том, что крестьяне пригородных сапожковских слобод будут получать плату за постой людей (т.е. гусар) и за прокорм их лошадей по столько-то в год. Плата с тех пор получалась аккуратно и, кроме того, получено было за сколько-то лет прежних. Спрошу я теперь: кто бы из посредников стал добиваться так своей цели, если бы он и знал, что она законна, но видя, что все ему в ней отказывают? Даже военный министр отказал. Кто бы стал подавать прошение самому Царю? И все это - совершенно безвозмездно, лишь из принципа справедливости. За эту справедливость его не любили многие, и, когда решено было, что вместо пяти посредников в уезде оставляется только двое, на него указали первым делом, как на остающегося за штатом.
Чтобы закончить описание владельцев, живших в моем участке, упомяну еще громадное семейство Петра Алексеевича Мясоедова, почтенного благоразумного человека и хорошего хозяина. Он был вторично женат на вдове, имевшей пятерых детей, от этого вторичного брака у нее родилось еще пятеро, и у него осталось от первой жены столько же - так что всего составилось 15 человек детей. Кроме того, жили еще какие-то племянники. Всего было столько народу, что за обедом этого семейства, особенно, если бывал кто-нибудь из гостей, съедался целый теленок зараз. По соседству с ним жил Семен Семенович Лародзиев, потомок Зорича, близкого к Екатерине II, отставной моряк, хорошо когда-то знавший морское дело, но не понимавший самой простой вещи на земле - он, например, уверял, что его сосед Мясоедов украл у него десятину земли, но как это произошло - сказать не мог. Жена его, в свое время красавица, из армянской семьи, была очень бойкая, подвижная дама, игнорировавшая своего мужа. Она имела двух сынков, не похожих друг на друга, а супруг ее был настолько стар, что не мог справиться с обезьяной, выскочившей из клетки, и чтобы избавиться от нее, сам спрятался в обезьянью клетку. Были еще и другие типы, как Барышников или Кожин, которые тоже были своеобразны, но не настолько, как описанные здесь. Все они могли существовать лишь при крепостном праве, когда бесплатно работала на них целая деревня, а они получали все готовое - свое, как они называли. Падение крепостного права застало их неожиданно, а если бы им сказали, что оно будет уничтожено через десять лет, то и тогда они оказались бы неподготовленными к этому. Они, живя в деревне, вели беспечный образ жизни, ничего в хозяйстве не понимали. Знали лишь то, что унавоженная земля дает лучший урожай, чем не унавоженная, что земле нужно давать отдых от засеваний. А если им говорили, что немцы стали сеять траву и тем улучшили свое хозяйство, они от души смеялись, прибавляя, что если немец блоху выдумал, так почему же ему и траву не сеять, и серьезно садились за карточный стол, за которым оказывались большими знатоками, специалистами своего дела. В это время они уже прожили все выкупные платежи, данные им за земли, отошедшие к освободившимся крестьянам, и на помощь им явился “Золотой банк”, куда стали закладываться земли. А когда этот банк лопнул вследствие кражи, особенно банковского бухгалтера, на покрытие долгов пошли “ненужные” участки земли, а за ними и очень нужные, в результате всего этого - обнищание, повторение того, что описывал Сергей Атава (Терпигорев). Но заносчивость этих дворян оставалась все же великой, и мне приходилось иногда слышать от них, что они платят в Земство много денег, потому все земские служащие должны оказывать им свое содействие даром, т.е. врачи должны лечить их бесплатно. Меня это иногда смешило, а иногда бесило, и я говорил им с досадой: “Да, земские врачи получают от земства жалованье, но не за то, чтобы лечить всех в уезде бесплатно, а лишь - неимущих, крестьян, и за то, что решаются жить в таких ужасных условиях, при которых иногда неделями они не видят человеческого лица, а лишь свиные рыла”. Такая отповедь им была, кажется, понятна и они, не зная, что ответить на нее, по большей части умолкали. В имениях крупных владельцев, как, например, Зубова, Меншикова, Смольянинова, которые сами в имениях не бывали, жили управляющие, по большей части немцы, которые не обладали свойствами русских дворян и прекрасно обделывали свои дела и делишки, и, отойдя от хозяев, покупали себе именьица по сходным ценам, а хозяева исчезали с горизонта. Таких было много. Но были и еще оригинальные типы - бывшие дворовые люди, лакеи, повара, умевшие хорошо оказывать свои услуги престарелым помещикам, которые или давали им векселя, или в завещаниях отказывали им немалые средства. Отлично я знал двух таких - Кузнецова и Саблина. Первый был лакей, второй - повар. У этого повара, жившего постоянно в городе в своем доме, было отличное имение в черноземной полосе уезда, около 500-600 десятин земли, дававшее много тысяч рублей дохода.
Кроме обычных занятий в больнице и приема приходящих больных, которых в иные дни бывало больше сотни, как например, в базарные дни, мне нередко приходилось производить исследования трупов в судебно-медицинском отношении, по приглашению судебного следователя Нацевича, за отсутствием уездного врача. Одно из дел я помню до сих пор, хотя с той поры прошло уже полвека. Оно состояло в следующем. В лесу богатого владельца села Красного, занимавшего громадную площадь, больше чем в 2 тыс. десятин, на поляне стоял огромный старый дуб, от которого постоянно раздавался какой-то особенный звук, похожий на тихий свист. Причину звука никто не знал, но слышали его все, кому случалось здесь бывать. Знали также все, что у него есть на высоте 2-2,5 сажен большое дупло, в котором живут осы. Так вот, однажды во время сильного ветра этот дуб упал, сломался на высоте дупла, и часть его, бывшая ниже дупла, рассыпалась на куски, причем оказалось, что в дупле был человеческий скелет. Дано было знать местным властям, которые, не зная, как поступить, дали знать судебному следователю - кто его знает, может, тут убийство было. И вот судебный следователь пригласил меня дать свое заключение по этому поводу. При осмотре скелета оказалось, что он лежал головой вниз, т.е. - ко дну дупла, которое, т.е. вход в него, было не менее квадратного фута, а чем ниже, тем все шире была его труба. Толщина дуба была в 5 четвертей в диаметре. На стенках дупла было много осиных гнезд. Скелет местами был почти бурого, местами - белого цвета. Все кости, кроме левой теменной, были целы, а эта теменная кость разрушена, хотя периферия ее, т.е. края, были в соединении с соседними костями. Скелет, судя по величине роста и состоянию зубов, принадлежал мужчине средних лет и пробыл в дупле, вероятно, уже несколько лет. Никаких следов бывшей на нем одежды не было. Со стороны следователя мне было поставлено два вопроса: 1) по имеющимся данным можно ли предположить в данном случае убийство, а с целью сокрытия его - помещение трупа в дупло; 2) не был ли при жизни тут несчастный случай, т.е. покойный сам попал в дупло и там умер? На оба вопроса я дал один ответ, что, вероятнее всего, здесь имелось убийство, так как одна из костей была разрушена (левая теменная кость осталась лишь в виде кольца, соединенного с соседними костями), а потом труп был заткнут в дупло; а предполагать несчастный случай невозможно, потому что взрослый человек не мог даже и при желании опуститься в полость дупла вниз головой, и что он оставался там много десятков лет. Опрошенные жители соседних сел ответили, что они не помнят, чтобы на их памяти пропадал бы какой-нибудь человек из местных жителей, но что они слышали от стариков, что в этом лесу пошаливали какие-то люди. На основании всего этого следователь постановил: дело производством прекратить и память о нем предать забвению, а врачу-эксперту (т.е. мне) выдать прогоны на две лошади от места моего жительства и обратно, всего на 19 верст на 2 лошади, и суточных за двое суток по 45 копеек в сутки, как не имеющему чина, - всего 2 рубля 99 копеек. Второе интересное дело было в Боровом поселке в глубо-кую осень. На поле Борового поселка был найден труп крестьянина соседней деревни Уши, которого ожидали домой с заработков на Дону, где он делал бочки для соленой рыбы и куда уходил каждую весну. Ушедший с ним житель Борового поселка возвратился, говоря, что тот остался еще там на месте и с ним не пошел. На трупе были ясные следы убийства - большая рана на черепе. Когда мы со следователем приехали туда - труп лежал, конечно, там, где его усмотрели, т.е. в поле, и уже замерз настолько, что для исследования его нужно было оттаивать. Следователь распорядился поместить его в натоп-ленную избу на ночь, а сам занялся опросом разных лиц. По оттаянии трупа на следующий день я сделал вскрытие его, причем оказалось, что голова была рассечена позади нее так, что рубящее орудие рассекло, кроме мягких частей, и левую теменную и почти половину затылочной кости. Кроме того, был рассечен позвоночник поперек, рана проникла в полость живота и повредила аорту на протяжении около дюйма. На лбу были кровоподтеки величиной с горошину, числом пять или шесть, расположенные дугообразно. Денег и кошелька при трупе не оказалось. Судебный следователь предложил мне вопросы: 1) отчего последовала смерть покойного? 2) если в данном случае было убийство, то каким орудием оно было произведено? и 3) какое значение имеют те кровоподтеки, которые остались на лбу трупа? Я ответил на это, что смерть произошла от абсолютно смертельных ран черепа и головного мозга (он был рассечен), а также спинного мозга и аорты, что эти ранения были произ-ведены очень острым, широким рубящим орудием, как, например, бондарным топором, что знаки на лбу произошли от ударов по лбу какой-либо обувью, подбитой гвоздями (сапогом), а расположение и свойство ран указывают на то, что убийство было произведено левшой. Руководясь этим заключением, следователь в тот же день нашел виновника убийства - этот тот самый человек, который говорил, что убитый остался там, на месте работы. Он ограбил его, уже мертвого и представил кошелек, признанный родными убитого как принадлежащий убитому; в нем убийца нашел всего 25 рублей. В лоб он действительно толканул его пинком, сапогом, у которого в каблуке были вбиты гвозди, расположенные наподобие подковы. Следователь ликовал и о моей экспертизе официально заявил куда-то дальше, и из Московской судебной Палаты мне была прислана благодарность за необычайно добросовестное отноше-ние к делу экспертизы. Были и другие дела, в которых подозревалось убийство, а при исследовании трупа оказывалось, что смерть последовала от гнойного воспаления мозговых оболочек. После перевода Нацевича в Рязань на должность члена суда, на его место был назначен Трояновский, не то дурачок, не то близкий к тому человек, но так как в это время был уже уездный врач, Сам. Кир. Чернявский, то мне не приходилось производить судебных исследований. Вспоминая все это, я отношусь с благоговением к памяти Дм. Е. Мина, хорошо ознакомившего нас с тем, как нужно вести судебно-медицинскую экспертизу и как писать протокол ее.
Для лучшего и возможно единообразного устройства Земской медицины в губернии кем-то было предложено сзывать съезд земских врачей Рязанской губернии; мысль эта понравилась многим земствам, и я был на первом же съезде в Рязани летом 1875 года. Но так как я не спросил разрешения Управы на эту поездку (а испросить я должен был по службе), то председатель Управы Головин, уже давно точивший на меня зубы, вскипел гневом и написал на меня доклад собранию, в котором выставлял меня каким-то якобинцем, совсем нежела-тельным для земства. Не дожидаясь постановления собрания по этому поводу, я решил оставить службу земству и уйти в отставку, что и сделал в тот же день, заявивши письменно Карлу Карловичу Эмме, как попечителю больницы, о своем нежелании продолжать службу. В тот день, в который оканчивалась моя служба в Сапож-ковском земстве, ко мне в больницу должно было прибыть лицо, которое приняло бы от меня все больничное имущество, но вместо одного лица прибыло два, а именно - член Управы Красиков и земский врач городского участка С.К. Чернявский. Они приехали прямо в больницу и, не дожидаясь моего прихода (а я жил в своей квартире в доме Стурм), приступили к перечню белья и осмотру инструментов. Когда прибыл в больницу я, а вслед за мной гласный Чернышев и, ради любопытства, - “ходячий банк” М.М. Коринфский, приемщики набросали уже целый ворох белья в аптеке и вынули все инструменты из шкафа. Я спросил их, что это они делают? Они отвечали, что принимают больничное имущество от меня. - “Принимаете от меня, без меня?” - Этот мой вопрос особенно понравился М.М. Коринфскому, и он, со своей стороны, сделал по этому вопросу какое-то замечание, от которого приемщики были сконфужены. А далее я спросил их, их чего видно, что Управа уполномочила их принять от меня больничное имущество? Есть ли у них на то официальное доказательство, т.е. бумага к ним о принятии, а ко мне - о сдаче им этого имущества. Оказалось, что таких бумаг нет. - “В таком случае, господа, вы являетесь приемщиками-самозванцами, и, кроме того, как начавшие перечень имущества и осмотр его без меня, являетесь ответственными за него и в случае недостачи чего-либо, не можете спрашивать недостающее с меня. А теперь, ввиду всего происшедшего в присутствии посторонних свидетелей (Коринфского и Чернышева), я считаю себя в праве удалиться, т.е. не присутствовать при дальнейших ваших действиях” - И ушел. Скоро после моего ухода уехали и приемщики, а назавтра утром на мое имя присланы были две бумаги, в одной из которых предлагалось мне сдать имущество больницы члену Управы Красикову и земскому врачу Черняв-скому, а во второй я уведомлялся, что все больничное имущество они от меня приняли, и все оно согласно книгам записано и оказалось в целости. Этим закончилась моя служба в земстве. Но дня через два-три человек около 20-ти устроили мне прощальный завтрак в д. Попова и поднесли адрес, в котором выражали сожаление о том, что я должен покинуть службу и что они не в силах удержать меня. Адрес был подписан несколькими десятками лиц разного звания и состояния, и прочитавший этот адрес А.В. Колюбакин заявил в присутствии здесь всех бывших, что собрана некоторая сумма денег, чтобы купить мне подарок от них. Этот адрес до сих пор хранится у меня, а в конце ноября, уже в Москве, я получил от того же Колюбакина золотые часы с золотой цепочкой, с которыми не расстаюсь до сих пор. В конце или половине ноября я уехал в Москву искать счастья, а нашел ли его - видно будет дальше.
Николай Николаевич Бер Вспоминая о Николае Николаевиче Бере, моем старом приятеле и куме, не могу удержаться, чтобы не написать о нем хотя бы несколько строк. В его судьбе роковую роль сыграли события на Ходын-ском поле во время коронации Николая II, в мае 1896 г. Хоть он и говорил мне сам много раз, - а мы были с ним в дружеских отношениях до конца его жизни, - что совесть его чиста, но он все же нажил себе грудную жабу, от которой умер, живя в деревне и будучи уже не у дел. Устройство народных гуляний и раздача подарков пору-чены были особой комиссии, под председательством Николая Николаевича Бера и помощника его - полковника Иванова, заведывавшего дворцами в Варшаве. Тогда носились слухи, неизвестно откуда почерпнутые, что будто бы бывший в то время генерал-губернатором в Москве В. Кн. Сергей Алексан-дрович остался очень недоволен тем, что устройство этих торжеств было поручено не ему, а Беру, и это сразу породило в нем недоброжелательное отношение к корона-ционной комиссии, что потом высказалось в очень печальной, трагической форме. Когда я по приезде из Пензы жил в Барановке, Мария Александровна Бер доставила мне очень важный документ, вряд ли кому-нибудь известный - это письмо ее мужа Ник. Ник. Бера, которому поручено было устройство коронационных народных торжеств, к бывшему его сослуживцу, а во время коронации - генералу Ник. Вас. Холщевникову, близко стоявшему к Николаю II. Письмо это было написано Бером в ответ на письмо Холщевникова в июле 1986 года, в котором он просил Бера изложить ему письменно всю правду об этом событии, не утаивая ничего, как священнику на исповеди. Цель такого предложения та, чтобы сообщить истину царю, потому что следственная комиссия под председательством министра юстиции Муравьева вела дело пристрастно, выгораживая от ответственности Власовского и В. Кн. Сергея Александровича, главных московских властей того времени. А так как нужно же было кого-нибудь обвинить, то и обвинили Бера. В своем письме по этому поводу Бер, в свою очередь, обвиняет Власовского, называя его и идиотом, и мерзавцем, и нераспорядительным полицейским, который уклоняется от переговоров и с Бером, и с Министром Двора графом Воронцовым, но всегда появляется там, где он был совсем не нужен, для того только, чтобы торчать перед глазами царя, мозолить ему глаза и тем добиться себе высокой награды. Он даже старался ехать всегда по той улице, по которой должен будет ехать царь и тем как бы оповещал злоумышленников о царском проезде в скором времени: будьте, дескать, готовы, едет. Вообще-то письмо написано очень мягко, и автор его в самом начале говорит, что правду он не может поручить бумаге и там, где кроме Власовского следовало бы указать на истинного виновника, т.е. на Сережу, он говорит: “Положи, Господи, хранение устам моим и дверь охранения ко устам моим”. Очевидно, он боялся, как он сам сказал, что во всем обвиняет такого сильного человека - единородного дядю царя и в то же время свояка и московского генерал-губернатора. Дальше он говорит, что он будет считать себя обеленным, если получит ту награду, которую ему следовало получить, если бы не случилось это печальное событие, и представление о которой (награде) было временно приоста-новлено. Мария Александровна сообщила мне, что он потом полу-чил Аннинскую звезду, т.е. ту награду, которая ему следовала. Стало быть, он был обелен в глазах царя. Все же на Николая Николаевича эта история произвела крайне гнетущее впечатление: у него сказались все признаки грудной жабы, которую он унаследовал от отца (два брата его умерли от нее). Но до тех пор она мало беспокоила его, а теперь приступы ее стали выражаться все сильнее и сильнее, хотя совесть его была, как он говорит, покойна. Его не обвиняли, даже дали ему вторую звезду (Анны I степени), но он сам впал в какое-то особое состояние - искал уединения, раздражался при виде всякой неправды, стал терять память, не мог вести разговор от забывчивости многих слов, затруднялся даже читать, но курил, курил без конца. Члены его семьи стали ему неприятны. Хозяйство мало интересовало его. Он пробовал поехать в Польшу, где он был управляющим большим имением, купленным еще Александром III (Клобуцка Обровы), но и это не помогло. В последнее время он жил в своем имении (Протасьев Угол) и не мог уже вести управление им так, как вел раньше; теперь заведовал им управляющий, в дела которого вмешивались все дочери, каждая со своим советом, своим указанием, и тем самым тормозили дело. Николай Николаевич и хотел бы, может быть, сам взяться за дело, но он хорошо сознавал, что оно ему уже не по силам: он хорошо понимал, что он может только напортить, потому что он иногда говорил совсем не то, что хотел сказать, совсем другие слова; читать он мог лишь печатные строки две-три, а дальше уже утомлялся, писать или читать писанное - не мог. Последнюю зиму свою он прожил в Москве в нумерах архитектора Гунста (близ Пречистенки), где жил совершенно один, вспоминая былое, редко с кем виделся, лишь иногда приходил к нам на короткий срок; все те, которые льнули к нему перед коронацией, теперь забыли его, покинули и нисколько не интересовались его судьбой. А если бы не происходило на Ходынке ничего особенного, все прошло бы благополучно, он, конечно бы, получил какое-нибудь новое назначение и, может быть, очень высокое. Гордость и самолюбие его были бы удовлетворены, и, наверное, он был бы здоров. Потому говорю, что он был бы здоров, что уверен в том, что его грудная жаба развилась под влиянием тех картин на Ходынке, которые он своими глазами видел там, когда смрадная, даже в поле, человеческая спрессованная толпа, по временам выбрасывала из себя мертвецов, а иногда и живых, с выпученными глазами и высунутыми языками людей, которые тут же умирали. Такие картины должны были подействовать на всякого, а на него - особенно неблагоприятно, так как он всегда был очень впечатлителен. Он умер от одного из припадков грудной жабы у себя в деревне, отвезен в Петербург и там похоронен рядом с братом Виктором (бывшим помощником директора Департамента уделов). Его хозяйство, которое он любил и так хорошо наладил, после него быстрыми шагами пошло к упадку. Его лошади арданской породы постепенно распродавались, голландские коровы тоже продавались, земли в один раз продано было 200 десятин (рядом с нашей землей) деревенским мужикам, а предварительно продан был на сруб лес, по преимуществу дубовый, по оврагу, за 3,5 тыс. руб., причем покупатель получил чистого барыша около 15 000 руб., а от рогатого скота ко времени революции остался лишь бык-гигант, которого мужики тут же на дворе убили, разрубили на куски и разнесли к себе по домам. Печальный был конец его служебной деятельности, кото-рая протекала при счастливых условиях. Еще более печальная участь выпала на долю его семьи, т.е. жены, которая буквально томилась от голода во время революции и после нее, и участь его дочерей, которых он считал какими-то высшими, чем люди, существами, а после него ставшими такими, какими не приведи Бог стать никому не только из наших, но и из знакомых нам (за исключением Ксении Николаевны Геринг).
Морозы и снега прежних зим Расскажу здесь же и о бывавших метелях. Как пример сильной метели, могу сообщить следующее. Зимой на 72-й год я жил в Путятине; квартира у меня состояла из двух комнат в том же доме, в котором помещалась больница, т.е. на том же месте, на котором стоит и теперешняя больница. Я возвращался домой со стороны Малышева часов около 5 вечера и был настолько близко от дома, что уже видел путятинские мельницы. Вдруг поднялась метель, настолько сильная, что нельзя было отчетливо видеть дугу у лошади. Ветер был порывистый, переменчивый и сбивал с толка. Скоро мы потеряли из вида мельницы и начали путаться по дороге. Помнили, однако же, что налево от нашей дороги были большие овраги, а направо мы могли попасть в Глебово или на большую дорогу, ведшую из Глебова в Путятино, обсаженную, хотя и не часто, большими деревьями (ветлами). Но мы не нашли никаких ветел, никакого признака жилья, а продолжали все плутать. Скоро совсем стемнело, а буря все продолжалась, и снег не переставал. Долго мы ездили так и пробовали не править лошадьми, надеясь, что они сами как-нибудь по инстинкту найдут дорогу или пойдут к жилью, но и это не помогало: лошади скоро останавливались, очевидно, они были уже утомлены. После долгой езды мне удалось кое-как зажечь спичку и посмотреть на часы - оказа-лось уже 11 часов. Что же делать дальше? Мы решили заночевать в поле, для чего нужно было распрячь лошадей, перевернуть вверх дном сани (они были с высокой спинкой) и поочередно залезать туда отогреваться, а другой - чтобы сидел снаружи и берег лошадей от волков. Так и сделали, но лишь перевернули мы сани, как вдруг около них оказались мои собаки (Джон и Бисмарк), привлеченные звуком нашего колокольчика, который стал звонить во время отпрягания лошадей потому, что с него стряхнулся снег, набившийся и на него. И на этот-то звук, знакомый собакам, они и прибежали, так как привыкли уже встречать меня далеко от квартиры, когда я возвращался домой. Собаки будто поняли наше жалкое положение и пошли впереди нас на 5-6 шагов, обе рядом, как путеводители. Едва мы прошли шагов 50-60, как увидели и деревья, а позади них и огонек; собаки бежали на огонь. Оказалось, что этот огонь был в нашей же больнице, в аптеке, стало быть, за стеной у меня, а расположились мы ночевать против самой больницы, стало быть, от нашего крыльца в расстоянии не более 100 сажен. Благодаря чутью и хорошему слуху собак мы были спасены. Той же зимой, недели через две после описанного случая, прислал за мной лошадей Федор Васильевич Протасьев, живший на Углу (там, где теперь имение Бер). Я поехал туда, как и тогда, часов около пяти, потому что это была среда, базарный день, и, стало быть, много амбулаторных больных. Со мной ехал фельдшер Павел Иванович Кочетков, живший в Строевском, и кучером был тоже строевский уроженец, человек уже немо-лодой. Мы увидели уже огоньки в Беровском доме, но вдруг все потемнело, поднялась вьюга и мы сбились с дороги. Ездили, ездили и приехали обратно в Путятино. Все мы, т.е. кучер и я, а особенно фельдшер Кочетков, были поражены и никак не могли понять, где мы свернули обратно. Но делать нечего, нужно было попасть на Угол. Поехали опять на Строевское - и опять попали в Путятино. И только после третьего разу благополучно доехали до Строевского, а потом уже без всяких приключений добрались и до Угла, где давно беспокоились уж за нас. Был еще случай, когда один сомовский мужик - Нефед Петров. Чумалин, едучи из Глебовского волостного правления, отстоящего в двух верстах от Сомова, сбился с дороги вечером, вышел из саней и пошел искать дорогу, но не нашел ее и потерял лошадь. После долгого блуждания по колена в снегу попал на огонек в нашей кухне (мы ушли тогда в дом Стурм, где теперь огородники), постучался в окно, и наша прислуга приняла его. Назавтра оказалось, что у него совершенно обморожены пальцы на обеих руках. Положили его в больницу, и пришлось вылущить все (кроме большого на правой руке) пальцы. Потом он попался в краже, уже не первой, судился и попал в Сибирь на поселение. |
||
на главную страницу to the head page