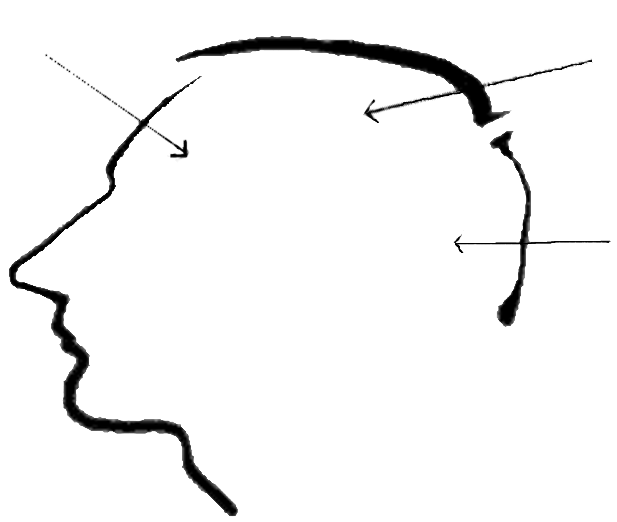 Главная страница
- Леонид Кипарисов. Живопись,
проекты.
Head Page - Leonid
Kiparissov. Painting.
Главная страница
- Леонид Кипарисов. Живопись,
проекты.
Head Page - Leonid
Kiparissov. Painting. |
 "Воспоминания Ивана Ильича
Курбатова доктора медицины 1846-1923"
"Воспоминания Ивана Ильича
Курбатова доктора медицины 1846-1923" |
||
 |
Глава 4. В хирургической клинике. Диссертация на степень доктора. Санитарные поезда. 1877-79 |
 |
|
По приезде в Москву я в скором времени нашел себе квартиру в меблированных комнатах в доме Лазаренко на Тверском бульваре и начал поиски места в различных больницах; но все было безуспешно - ласково встречали и обещали иметь ввиду, а когда узнавали, что я не имею степени доктора, говорили, что если бы я имел такую степень, то конечно было бы гораздо легче найти желаемое. Словом отказ за отказом. Что бы не оставаться праздным я задумал держать экзамен на доктора и засел за приготовление к нему. Тут оказалось, что мне нужно проштудировать два совершенно новых для меня предмета, которые при мне не читались, а именно учение о нервных и душевных болезнях и медицинскую химию. Долго и упорно я сидел над лекциями по этим предметам, читал до одурения и насидел себе такие приливы крови к мозгу, что у меня явились ужасающие носовые кровотечения: кровь шла не только каплями, а прямо лилась струей и выходило ее за раз не менее 2-3 стаканов, что освежало голову и уменьшало боли в ней, и память, кажется, просветлялась. В декабре 76 года я подал в факультет прошение о том, что бы мне разрешили держать экзамен на степень доктора медицинских наук и представил свои бумаги; разрешение было дано на срок январь-февраль. Тогда было такое правило, что все теоретические экзамены должны были сдаваться в течении шести недель по пятницам во время факультетских занятий. Мне выдан был из канцелярии факультета экзаменационный лист, с которым нужно было подходить к профессору, у которого экзаменуешься. На первый раз, 16 января, назначались экзамены у Шереметьевского (физиология) и у Булышевского (медицинская химия). По химии я подготовился довольно плохо и думал отложить на следующий срок, но тут помог мне случай довольно оригинальный, а именно, начавшийся где-то недалеко от университета пожар, о чем письмоводитель громко заявил факультету, когда я кончал уже экзамен по физиологии; факультет тотчас окончил занятия и мне роковым образом пришлось отложить химию до другого раза. Начало было недурное, оно будто бы в мою сторону, но что будет дальше? Посмотрим. Но и дальше, как потом оказалось, дело шло хорошо; меня только пугал Матюшенков с своими какими-то архаи-ческими воздействиями на болезненные процессы, подлежащие ведению хирургии и его необычайная грубость, на которую я заранее решился отвечать тоже грубостью, хотя это и не было в моих привычках. Но, к удивлению моему, он на этот раз был человеком обыкновенным, спросил меня давно ли я окончил курс и где я жил, чем занимался. Я отвечал ему, что служил по Земству и приехал сюда затем, чтобы пополнить знания и не терять времени напрасно, приступил к экзамену на доктора. У него для всех экзаменующихся всегда были печатные билеты - вопросы. Он возил их с собой на все экзамены, так было и теперь. Он разложил их передо мной: я вынул два билета: первый из них болезни десен, второй - болезни зубов. Об этом он никогда не читал на своих лекциях и не слыша от меня еще ни слова - записал вопросы в экзаменационный мой лист. Я все отвечал, что можно вообще о болезнях десен, главным образом о воспалении надкостницы или флюсах; он все время молчал и не сказавши ни одного слова написал “удовлетворительно” и на прощание даже пожал руку. Экзамен для меня этот был настолько легок, до поразительности легок, что я невольно подумал, что все страхи мои были совершенно напрасны и разговоры о трудности экзамена у Матюшенкова неосно-вательны. Я не пошел домой, а поехал на извозчике для ускорения прибытия и первым делом порвал все заметки и конспекты по теоретической хирургии и их набралось столько, что обрывками засыпало почти весь пол в комнате. Тут я с облегчением вздохнул, что сдал уже все и почувствовал такое утомление, какого давно не испытывал; очевидно все время перед тем я был в приподнятом возбужденном состоянии, которое теперь улеглось благодаря тому, что причина его миновала. К следующему экзамену я совершенно не готовился и сразу сдал у Мина (Судебная медицина), у Нейлинга (Медиц. позиция), у Найденова ( болезни кожи), у Снегирева ( женские болезни), у Шиловского (детские болезни) и Макеева (акушерство), и еще что-то. Словом, осталась одна фармакология у Соколовского, за которую я и засел, и химия брожения от I-го заседания. Но справиться с обоими этими видами было трудно; химия - совершенно новый для меня предмет, а постигнуть фармакологию, или, в устах Соколовского, отрицательную науку, еще мудренее, я уже раньше говорил почему это было. Должен еще упомянуть здесь отдельно, что по андрологии нужно было экзаменоваться у Басова, который временно исполнял должность покончившего с собой покойного профес-сора Гаага (сына бывшего в нашей гимназии учителя фран-цузского языка). Разговор с ним был приблизительно такой: “Что такое Sarcocele? - Ответ: Это есть опухоль Testiculi, которая характеризуется такими-то и такими-то признаками, а с патологической стороны рассматривается как <....> и т. д. А Вы когда кончили курс? Тогда-то. А где Вы были до сих пор? Там-то. А какого состава бывают мочевые камни? Такого-то. А что называется зерном камня? Вот то-то. А не хотите ли Вы занять у меня в Клинике должность ординатора? Хочу. Если хотите - приходите ко мне завтра в 9 часов утра; там переговорим, а здесь неудобно”. Это было началом будущей клинической службы в Университете. Конечно на завтра утром я был у него на квартире, и он сказал мне, что предлагает мне место сверхштатного ординатора при клинике болезней мочевых и половых органов, которой он временно заведовал. Место это сверхштатное, но для того, кто желает дело делать, не все ли равно как называется - штатным или сверхштатным. Жалованье правда маловато и квартиры нет, но впоследствии и этот вопрос может быть решен в благо-приятном для Вас смысле, только на это нужно время. Я, конечно, поблагодарил его и сказал, что охотно принимаю его предложение и если бы он не сделал его, то я сам начал бы ходатайствовать перед ним, чтобы добиться этого места. Дело было решено, но он сказал мне, чтобы я побывал у Маслова (письмоводитель) и взял бы у него выписку моих отметок, полученных при окончании курса. Я это сделал тогда же; идучи от Басова, зашел в университет к письмоводителю Маслову, который за врученную ему трехрублевку, в какие-нибудь 10-15 минут достал выписку за 1870 год и быстро составил требуемую записку. Дело шло как будто гладко. Но недели через две ко мне зашел Д.П. Борейша и сказал, что на последнем факультетском заседании решено было упростить эту клинику (мочев. и половых органов) и, стало быть, мое дело, так неожиданно сложившееся, так же быстро провалилось. Я поверил этому и тем сделал глупость, потому что Совет универ-ситета решил не уничтожать ее. В этом случае, кажется, совет руководствовался мнением Басова, который конечно отстаивал существование клиники. Но о том, что она оставлена, я узнал лишь позднее, когда в августе вернулся из деревни в Москву. Как только что узнал о том, что Клиника будет существовать, в скором же времени отправился к Басову с возобновлением своего ходатайства. Он принял меня любезно и сказал, что я напрасно поверил неосновательному слуху, что мне лучше всего было бы справиться об этом деле у него же; ведь он сам мне предложил занять место, стало быть он знал, что делал. Конечно я согласился, что сделал промах. А теперь, говорит он, Вам придется наведываться ко мне и не раз, что бы узнать в каком положении Ваше дело. И действительно пришлось ходить к нему. Теперь я уже не припомню сколько раз я был у него, но что-то очень много, чуть ли не целый десяток, прежде чем он взял у меня мою карточку и сказал, что сделает представление обо мне в факультет. Дальнейшие экзамены шли своим порядком, кроме фармакологии (Соколовский), на которой оказалась задержка; это было в конце февраля, а в конце апреля я сдал и ее и в тот же день уехал в Сергеевское, где жила моя жена, и тут оставался без всякого дела до осени, когда снова переехали в Москву, уже на постоянное жительство, и тут-то узнал, что я сделал весомый промах. Остановился я в квартире Кипарисова на I-й Мещанской улице в доме Винтера. Кипарисов (Николай Петрович) служил раньше в Сапожковском уезде в с. Сорочь или Верда, и по моему приезду, оставил службу там и переехал в Москву, чтобы держать экзамен на доктора медицины. Прожил у него я не долго и почти целые дни убивал на то, что бы найти себе квартиру. Я прошел все улицы и переулки на громадной территории от I-й Мещанской до Пречистенки и через 10 дней ежедневных путешествий нашел наконец в Левшинском пер. в доме Сиротинина маленькую квартиренку в три комнаты и кухню в подвальном этаже. Квартира эта могла бы годиться лишь на летнее время, потому что потом оказались в ней такие щели, что через них видно было на улицу, особенно между полом и стеной. Хозяин дома, Сиротинин, старый чиновник, служащий смотрителем в Городской больнице и там составивший себе средства на покупку дома, мало обращал внимания на удобства своих жильцов и предоставлял им за свой счет ремонтировать свои квартиры. Я не подумал заниматься ремонтом чужих домов за свой счет, тем более, что все еще надеялся устроиться в Клинике и стал себе подыскивать другую квартиру, где-нибудь поблизости Рождественки, и потому прожили мы в доме Сиротинина лишь полтора месяца, отсюда Антонина Николаевна поехала в Харьков к Ник. Ник. Бер, где у него родилась дочь; он жил в это время в новом своем имении “Нескучном”, купленном вместо Сапожковского имения Сергиевки, которую он продал. В начале октября я перебрался в новую квартиру в доме Зверевой в нижнем Кисельном переулке, в которой прожил более года. 9-го октября состоялась моя баллотировка в Совете, я был избран на ту должность, которую мне предложил В.А. Басов. Это было осуществление заветной моей мечты служить при университете. Да это была моя мечта, которая теперь осуществлялась. Я быстро перебрался в новую квартиру. Она занимала весь третий этаж, была в три раза больше той, которую я занимал в доме Сиротинина, была удобнее расположена, в ней было 6 хороших комнат и кухня, все в ней было просторно, светло и чисто; лишь одна стена была немного сыровата. Хозяйка дома, вдова врача, очень любезная, сама заботилась о ремонте и каждое 1-ое число присылала печника, водопроводчика или слесаря справиться, не нужно ли что-нибудь исправить. Цена этой квартиры была 750 рублей в год. В этой же квартире застала меня разразившаяся война 1877-1878 годов. С первых же дней поступления в Клинику я познакомился со своими сослуживцами доктором Д.П.Молловым, родом болгарином, который впоследствии был в Болгарии в качестве Министра народного просвещения, доктором П.П.Отрадинским - ординатором в Клинике Черинова, Д.Вл.Соколовским - очень юным акушером, Вл.И.Ланиным, на место которого перешел потом (в хирургическую клинику) и другими. Все это был народ работящий, молодой, жизнерадостный, веселый и честный. Ни у кого из них не было и мысли о том, чтобы завести свою лошадь, устроить бьющую в глаза обстановку для ошеломления приходящего пациента. Все жили довольно скромно, а практика создавалась сама собой, благодаря фирме, т.е. службе в Клиниках. Я помню очень хорошо, что я в первый же месяц получил более 100 рублей, и мне казалось тогда, что это очень много, а следующие месяцы заработок мой все увеличивался и доходил до 500 рублей в месяц. Занятий в Клинике было не много, тем более, что больные были однообразны: камни мочевого пузыря, водяные грыжи, уретриты и т.п. Но зато я обязан был бывать на лекциях клинической хирургии и принимать участие в производстве операций в качестве помощника оператора, что было особенно важно после 5-и годичной самостоятельной работы в деревне. Может быть, кому-нибудь из читающих эту рукопись бросится в глаза то, что я говорю о клинических ординаторах, как о людях молодых, а где же старики? Дело в том, что раньше ординаторская служба была постоянная и некоторые врачи даже выслуживали на ней пенсию или переходили в ассистенты или профессора. Но через год или два после моего выхода из университета, признано было за благо во всех университетах, чтобы в ординаторы клиник назначались молодые врачи для усовершенствования по той или другой клинике в течении трех лет, а по истечении этого срока заменялись бы новыми. Так было и теперь, и, стало быть, я тоже поступил на три года. С введением этого правила все прежние ординаторы должны были выйти в отставку; между ними были и такие, которые составили себе имя в Москве, как например Ив. Гер. Корчагин, Мих. Ильич Чиж, Погожев и другие. Из новых ординаторов, моих современников, выдвинулся лишь один Н. С. Корсаков, а потом уже много лет спустя А.А. Бобров и А. В. Мартынов, оба ставшие профессорами Хирургической клиники. Мне же на этом пути помешал Склифосовский со своей свитой. Так как на сдачу практических экзаменов на доктора не полагалось никакого срока, сдавай их хотя бы 10 лет, то я воспользовался своей службой в клиниках и в свободные часы и дни начал понемногу сдавать их в то время, которое было для меня наиболее подходящим и действительно сдал в течении года все. Тогда было еще правило, не знаю, существует ли оно теперь, по которому ищущий степени доктора, по сдаче всех теоретических и практических экзаменов, должен был еще написать на латинском языке два ответа на заданные ему темы в присутствии факультета. Все делалось для того, что бы поставить докторанту возможно больше препятствий для достижения намеченной им цели. Но в это время и сами профессора или многие из них, особенно молодые, недавно перескочившие через это препятствие и хорошо помнившие ее, смотрели на это дело как на пустую, ни к чему не нужную формальность и всячески облегчали ее. Для достижения цели обыкновенно докторант входил в соглашение с кем-нибудь из профессоров о том, что он желал бы у него написать латинский ответ. Тот, конечно, охотно соглашался и давал тему. Докторант писал ответ по-русски, давал его перевести на латинский язык какому-нибудь филологу латинисту, заучивал этот ответ, а то и так приносил с собой в заседание факультета, обращался к председателю декану с просьбой разрешить ему писать латин-ский ответ у такого-то профессора (имя рек.), тот громко опрашивал названное лицо, желает ли оно дать тему для написания, следовало согласие, брался лист бумаги и профессор своей рукой писал тему и передавал ее докторанту, тот отходил в сторону, садился за отдельный столик и начинал строчить. Нужно было написать в течении двух часов хотя бы одну страничку, величина ее не имела значения: в уставе сказано было просто: “ответ на латинском языке письменный”. Для отвлечения внимания присутствующих ответ писался сперва медленно, а потом все скорее и скорее, и менее чем через час ответ был готов на том листе, на котором профессор сделал заголовок, подавался, прочитывался, удостаивался подписи “удовлетворительно” и подписи профессора. Затем лист сдавался на хранение письмоводителю и следовало вторичное соглашение с другим членом факультета. Так велось дело и до меня, и после меня. Я писал их коротко, чтобы они не занимали места более 1/2 листа разгонистого почерка с одной стороны, а переводил их на латинский язык отец Отрадинского, тоже врач, учившийся в университете в то время, когда все лекции на медицинском факультете читались на латыни. Ответы были действительно правильно написаны и впоследствии были скопированы другими, так как они хранились при моем деле и тем же письмоводителем Масловым сдавались за три рубля на временное подержание, т.е. на списывание. У Нейдинга прошло дело хорошо; я быстро написал и отдал ответ. Но с Макеевым вышло много комичного, и вот почему. Декан Полунин в этот день не мог быть в заседании в следствие болезни и передал представительство старшему по службе, т.е. Басову. Когда Макеев дал мне тему, я хотел было сесть в сторонку, но Басов позвал меня к себе и предложил сесть рядом с собой. Что мне было делать? Ответ-то я не заучил, а принес его в кармане. Начал я что-то строчить, но все безуспешно, и тут выручил тот же Маслов. Он ясно видел мое затруднительное положение, понял и оценил его и воспользовавшись тем, что в зал вошли еще два-три профессора и искали места вокруг стола, он, т.е. Маслов, просил декана Басова разрешить мне сесть за отдельный столик и тем самым уступить место членам факультета. Тот, конечно, должен был согласиться меня пересадить за отдельный столик, дали свечу и бумагу, и работа у меня быстро закипела. через 1/2 часа ответ был готов и сдан для прочтения Макееву; он прочел, остался доволен, написал “удовлетворительно” и подписал. Дело было сделано. Формальность выполнена. Теперь, уже много лет спустя, после этой комедии, я невольно спрашиваю себя, да неужели и до сих пор не отменено это ни к чему не ведущее правило, заставляющее взрослых людей прибегать к мальчишеским приемам и даже самих профессоров вступать в смешное положение? Ведь теперь каждый профессор хорошо знает, что он не может оценить латинскую рукопись по достоинству изложения, знает, что ни он, ни экзаменующийся не знают латинский язык так, чтобы они могли писать на нем ответы. Пора бы уничтожить это правило. Да и вообще во всем экзамене на доктора много стеснительного, лишнего, которое отличается от латинского только тем, что экзаменующемуся даются два вопроса вместо одного лекарского, хотя и по этому следовало бы давать два вопроса, как экзаменующемуся на врачебную степень по уставу. В это время почти окончилась война между Турцией и Сербией. В войне принимала участие и Болгария и, как соседка Турции, более всех потерпела от нее. В этой войне Русское Правительство не принимало никакого участия, но вместе с тем не препятствовало сформированию добровольческих отрядов, которые снаряжались повсюду в России, а перейдя русскую горную границу, поступали под общую команду генерала М. Черняева. В эти отряды шел всякий сброд. Вышло то же, что было в 65-м году при открытии Петровско-Разумовской Акаде-мии под Москвой, только теперешние добровольцы были люди более взрослые. Тут были и окончательно успевшие разорить имения помещики, и вышедшие из военной службы никуда не годные офицеры, были и исключенные из службы военные и гражданские чины, пьяницы не знавшие, где приклонить голову и чем заглушить требования желудка. Как тип такого сорта людей в Путятине был Философ Федорович Рунич отставной поручик или подпоручик, который жил при волостном правлении, состоял не официально в должности помощника волостного писаря, жалованья не получал, был ежедневно сыт и пьян на добровольные даяния посетителей волостного правления, держал себя гордо-покровительственно с ними и не стыдился брать и гривенники и двугривенные за какое-либо написание. Таких лиц как Рунич, неизвестно откуда взявшихся, точно с неба свалившихся, было немало. Они читали и “Московские ведомости” и кошелевскую “Беседу”, горой стояли за славян, возбуждали массы против Турции и довели дело до того, что 12-го апреля 1877 года Александр II объявил войну Турции или, как сказано было в Манифесте: “Мы повелели войскам нашим вступить в пределы Турции”. С этого момента роль добро-вольцев уже окончилась, а до тех пор они наделали много хлопот генералу Черняеву, потому что представляли собой совершенно не дисциплинированное стадо, не подчинявшееся никакому начальству, иногда выбиравшее свое особое начальство, но вместе с тем требовавшее к себе какого-то особенного уважения и почтения. Черняева они не слушались, но кричали, что они кровь свою проливают за славянскую идею. Когда в воздухе начало уже сильно пахнуть пороховым дымом, когда из газет видно было, что война с Турцией надвигается неизбежно, многие врачи как из Москвы, так и из других городов и земские предлагали военному ведомству свои услуги, но оно с гордостью отвергало эти предложения, говоря, что оно настолько обеспеченно своим штатом военных врачей, что в приезде новых не нуждается, даже на врачей Красного Креста оно смотрело косо, а потом оказалось на деле, что даже при помощи Красного Креста самонадеянность Военного ведомства была неуместная: врачей не хватало именно там, где они были наиболее нужны. В этой войне было в I-й раз применение санитарных поездов. Первый такой поезд был устроен Московско-Рязанской железной дорогой на 205 человек. Главным доктором его был Моллов, а я его помощником и младшим врачом; вторым был доктор Зенгиреев. Уполномоченным от Красного Креста был Александр Васильевич Майер - воспитатель во 2-м Кадетском корпусе; начальницей над сестрами была княгиня Софья П. Долгорукова; было много сестер милосердия, санитаров, аптекарей и даже монахи-священники. Все это помещалось в поезде, получало большое жалованье и подъемные деньги, пило, ело и одевалось на средства Красного Креста. Я получал по своей должности 250 рублей в месяц и столько же подъемных. 13 июня мы выехали из Москвы на курсы в Харьков. Проводы были в Москве какие-то особо торжественные, на них были целые толпы народа, в вагоны однако же никого не впускали во избежание краж. Ехали мы до Кишенева что-то очень долго. Оказалось, что мы были подчинены особому лицу, заведующему передвижением войск в тылу действующей армии. Таким лицом был Николай Саввинович Абаза, рязанский губернатор, поступивший на это место из ординаторов Тифлисской город-ской больницы. Скачек довольно крупный и не головоломный, как оказалось на опыте. Этот Абаза жил в Кишиневе, но в тот день, в который мы приехали - выехал из Яссы, как нам сообщили на станции, и даже подтвердил носильщик, внесший его вещи в вагон, знающий его лично. Но едва мы приехали в Яссы, убедившись, что он не там, так как получили от него телеграмму из Кишинева, в которой он спрашивает нашего уполномоченного, как это могло случится так, что мы проехали Кишенев и не показавшись ему. Отвечали, что были введены в заблуждение. На это опять телеграмма - ждите моего приезда через несколько дней. Поставили наш поезд на запасном пути около таможенных складов, громадного деревянного здания с одной стороны рельс и необозримого болота по другую сторону. Это болото лишь по берегам заросло тростником, а остальное пространство его было водное и на нем постоянно охотились за лягушками аисты целыми стаями. К вечеру воздух становился сырой, с отвратительным запахом, потому что в это болото сливались чуть ли не все городские нечистоты, где им предоставлялось разлагаться. В это-то таможенном пакгаузе устроили потом передаточный госпиталь, т.е. привозили сюда по румынской дороге больных и раненых из действующей армии, т.е. из-за Дуная, высаживали их в это помещение, а отсюда брали их потом наши поезда и увозили в Россию. Иногда бывали случаи, что больные оставались здесь больше недели, их конечно не лечили, а только слегка прикармливали. Во 2-й наш приезд их было здесь так много, что на каждой кровати сидело по три человека, некоторые лежали и между кроватями, а всех было около 6000 человек. Организации в передвижении поездов не было никакой, что особенно горько сказалось осенью и зимой. Теперь же в I-й наш приезд в бараке не было никого и нам дали лишь 13 человек из русского госпиталя для того, чтобы мы отвезли их в Харьков. Выходило так, что 13 человек больных и ни одного раненого едут на счет Красного Креста, а их сопровождает более 50 человек служащих, получающих готовое содержание и большое жалованье. На это Абаза не обратил никакого внимания. Между больными был один турок с многочисленными мелкими ожогами на разных частях тела. Это был повар с броненосца “Люфтли-Джелиль”, каким-то чудом спасшийся, тогда как все судно было взорвано вследствие того, что русская граната попала навесно в его дымовую трубу и взорвала паровик. Об этом случае и тогда много говорили и приписывали русским артиллеристам необычайные свойства, а дело все было лишь случайное. И так мы поехали в Харьков и там сдали этих больных и возвратились обратно. Теперь мы нашли уже весь барак переполненным и нам дали уже не 205 больных, а более 300 человек. Между ними было более половины сифилитиков. Не успели мы доехать до Кишинева, как нам подана на пути телеграмма, чтобы мы не ехали в Харьков, как первоначально сказано было, а в Киев; поехали в Киев, давши туда телеграмму, чтобы нам приготовили для них места, хотя в полученной нами телеграмме и сказано было, что места есть. Но каково же было наше удивление, когда встретившие нас приемщики сказали нам, что они только благодаря нашей телеграмме поспешили снарядить места для такого числа больных и еще более изумились, когда узнали, что у нас половина сифилитиков, которые свободно могут дойти до госпиталя и для них совсем не нужны ни повозки, ни носилки. Конечно и тут собралась толпа встречающих и тоже была разочарована свойствами наших больных. Мы не могли тогда понять да я не понимаю и теперь, чем руководились начальствующие лица в Яссах, когда в наш совершенно чистый вполне санитарный поезд определяли сифилитиков и с легкими ранениями, вообще таких, которые могли бы идти сами, а в военно-санитарные поезда, состоящие из товарных вагонов, лишь с некоторыми приспособлениями, помещали ампутированных и других тяжелых больных. Это все еще непонятнее становиться потому, что во главе распорядителей стоял врач доктор медицины Абаза и заведовали бараками в Яссах тоже врачи, а над ними главным был доктор Глазов. Путаница была невероятная и при погрузке поезда: нам давали список. Первый санитарный поезд, на котором я ездил, назывался поездом “герцогини Эдинбургской Марии Александровны”, т.е. дочери Александра II и был вполне оборудован на средства Московского Дамского комитета общества Красного Креста. На этом поезде я ездил немного больше месяца, а потом переведен был уже в должность старшего врача на поезд еще не устроенный, того же комитета, который формировался на Смоленской железной дороге; он назывался “поездом великой княгини Александры Иосифовны” потому, что она дала Дамскому Комитету 31 тыс. рублей на его снаряжение. Но откуда она взяла эти деньги? Дело вот в чем. За несколько лет до войны она была с мужем своим Константином Николаевичем в Константинополе, была в гостях у Турецкого султана, который подарил ей на память дорогой бриллиант. По правилам, существовавшим в придворном ведомстве полагалось, что если бы кто-нибудь из членов царской семьи пожелал продать имеющуюся у него драгоценную вещь, он должен был заявить об этом ведомству, которое оценивало вещь и по соглашению с продавцом или выдавало ему деньги, оставляя вещь в кабинете Его Величества, или, если продавец находил, что цена ведомства мала, предоставляло ему право продать вещь в частные руки. Александра Иосифовна продала вещь в частные руки за 31000 рублей и эти деньги отдала Московскому Дамскому Комитету. Вот на эти-то деньги и снаряжался поезд. Служба моя на этом поезде началась со времен перевода моего с Рязанского поезда, т. е. жалованье было увеличено до 400 рублей в месяц, дано столько же подъемных, из которых половина выдавалась тотчас же, а другая через три месяца со дня поступления и кроме того выдавалось по 5 рублей в день суточных ввиду того, что я жил в своей квартире, а не в поезде и должен был питаться на что-нибудь. Каждый день мне нужно было бывать на товарной станции железной дороги, где в мастерских устраивался поезд и проводить там времени не более часа, приходилось бывать и в заседаниях Дамского Комитета. Председательницей Комитета состояла княгиня Надежда Борисовна Трубецкая, урожденная Четвертинская. Заседания эти иногда бывали полны комизма. Так, например, одно из них состояло в том, какие одеяла приобрести для больных (тканевые белые или цветные): решили и тех и других поровну; затем если цветные, то какого цвета: решили голубого и розового; затем с рисунком или без него? Решили без рисунков, т.е. выпуклых узоров. И все эти вопросы дебатировались очень страстно, горячо, чуть ли не с пеной у рта, решались, перерешались и потом поднимались вновь. То же было и с другими подобными вопросами. Например решался вопрос о том, нужны ли инструменты для операций, которые могут понадобиться в поезде, например для ампутаций. После долгих прений, причем из врачей на заседании был я один, решили инструменты не приобретать, а вечером я получил от Трубецкой телеграмму о том, чтобы возможно скорее приобрести их. На утро, перед уходом из дома, вновь от нее телеграмма - если инструменты не приобретены, то и воздержаться от покупки их. Так в течении четырех дней шесть телеграмм попарно противоречивых друг другу. После шестой телеграммы я решил сам купить инструменты и счет из магазина послать Трубецкой для оплаты. Тем дело и кончилось. Мне же поручено было подобрать и помощников и фельдшеров. Вместо последних я взял студентов медиков, перешедших на 5-й курс - С.А. Альфонского и Д. Языкова и еще одного, который почти насильно втерся к нам, звали его Виктор Никитич, а фамилию я забыл. Уполномоченным был какой-то генерал Давыдов, заведовавший казенными лесами Московской и Тверской губерний; заве-дующей женским персоналом была жена присяжного поверенного Соловьева; она же была и казначеем поезда. Сестер милосердия полагалось на поезд 36 особ, но я их не видел ни одной до самого отхода поезда из Москвы на юг. Нам говорила Трубецкая, что в. кн. Александра Иосифовна желает видеть наш поезд и просит сообщить ей, когда он будет совершенно готов. Настало время, когда поезд был вполне оборудован и ждали часа выхода его на дело, но вместо приезда вел. княгини получилась телеграмма, что она, вел. княгиня желает, чтобы поезд прибыл к ней на станцию Тосно (50 верст от Петрограда), где она осмотрит его. Через 4 часа назначен был выезд из Москвы. За это время нужно было известить всех служащих, что через 4 часа выезжаем, чтобы все были в полном сборе. Хлопот было много, но все дружно принялись уведомлять друг друга и собрались полным составом. Поезд должен был по расписанию, сперва данному, прибыть в Петербург через двое суток, т.е. должен был идти медленно, а у меня в это время был больной, которого я не успел еще передать какому-нибудь из надежных врачей и потому задержался на сутки в Москве. У меня в руках была чековая книжка с железнодорожными билетами I-го класса. С этой книжкой я мог садиться бесплатно в любой поезд. Я так и сделал, что на следующий день поехал с курьерским поездом в Петербург, где-то обогнал наш санитарный поезд ночью и потому не перешел на него, а проехал прямо в Петербург. Здесь я думал увидаться с братом Алексеем, но не застал его дома, а придя в гостиницу, в которой остановился, нашел у себя записку Давыда Андреевича Крюгера (управляющего Смоленской дороги), что наш поезд доехал лишь до Тосно, где его смотрела вел. княгиня и вернется в Москву для дальнейшего следования на юг. Я конечно поспешил выехать в Тосно и там часа через 2-3 встретил наш поезд. На утро Трубецкая и Давыдов отправились в Мраморный дворец в Павловске, представляться Александре Иосифовне, которая приняла их в тот же день, т.е. в 11 часов и приехала в Тосно осматривать поезд. Она приехала в сопровождении своих фрейлин (одна из них Вяземская) и лакеев. Это была здоровенная баба, толстая, высокая, здорово сложенная, с несколько синеватым носом и говорящая хрипучим, точно перепитым голосом. Мы, служащие при поезде, все были во фраках, стояли рядком, она подходила к каждому, давла руку, а мы должны были целовать эту руку. Весь разговор ее сводился на то, что она спрашивала: где Вы раньше служили? Давался ответ; она кивала головой, как будто бы одобряла, что там служил отвечающий, и шла к следующему. По мысли Трубецкой мы хотели предложить ей завтрак, но она сама предупредила нас тем, что сказала, что она с собой привезла уже завтрак для всех нас и просит дать только место для него. У нас был отдельный вагон-столовая и в нем-то и устроен был завтрак. Надо отдать справедливость, что кушанья были очень хороши, а вина и того лучше и притом в изобилии. Я следил внимательно за тем, как она выпивала, и обратил внимание на это наших студентов, те пытались было потягаться с ней, но не могли и в скорости отстали, а она продолжала выпивать и выпивать, и все то херес, то мадеру и вышла из-за стола совершенно трезвой, а студентики, давно отставшие от соревнования с ней, были уведены на свои места-койки, где и заснули богатырским сном. На прощание она подарила нам по бокалу из своего сервиза, бывшего на завтраке. Он у меня долго хранился и не знаю, где он теперь. Когда все вышли из столовой, ее лакеи принялись прятать во все карманы бутылки с вином и откупоренные и неоткупоренные, и уносили с собой. Если бы у кого-нибудь хватило совести, то конечно можно было бы купить за бесценок и тарелки и салфетки, да пожалуй и серебро. Вечером в тот же день мы отправились в Москву, пробыли здесь сутки и поехали в Румынию. Дальше Ясс мы ехать не могли, потому что там была узкая колея между рельсами и потому что больные из-за Дуная довозились лишь до Ясс, а тут следовала перегрузка их в наши вагоны. В Москве к нам привезли и сестер милосердия из общины под названием “Утоли моя печали”, которой заведовала сестра Трубецкой, княгиня Шаховская, а у нее была помощница и фактическая начальница общины какая-то не то Буш, не то Бушион. Эта дама была себе на уме и всячески заботилась о приобретении средств на общину вроде матери Митрофании, прославившейся на всю Россию по громкому уголовному процессу, бывшему в Москве, но только Буш не прибегала так открыто к наживе, как это делала Митрофания (урожденная баронесса Розен). Сестер нам дали таких, которые собраны были прямо с улицы, и их успели лишь переодеть в форменное платье, до тех же пор они не знали ничего об общине. Но деньги за их службу взяли вперед, за месяц за всех по 30 рублей и сколько-то подъемных. Сперва ехали мы все время тихо и мирно, но, подъезжая к Киеву, я вынужден был спустить с поезда двух сестриц, давши им билеты на обратный путь в Москву. Дальше везти их с собой я считал неудобным; вместе с ними были ссажены с поезда и два санитара. Это обстоятельство дало мне повод сказать неосторожность за столом, что сестры не из общины “Утоли моя печали”, а если все они такие же, какие были ссажены, то общину следовало бы назвать русским именем, а не церковным славянским, а именно “Унеси ты мое горе”. Это мое слово было подхвачено кем-то, сообщено Шаховской, а та пожаловалась на меня сестре Трубецкой, но изгнать меня с поезда она не могла, а только возненавидела до глубины души, и в своей ненависти дошла до нелепости: я, как-то проходя через вагон-кухню, заметил, что ящик со льдом стоит слишком близко к плите и велел его перенести в другой вагон, а она потом увидела, что место пола, где стоял ящик, осталось незакрашенным, спросила что это значит, ей объяснили, что здесь стоял ледник, и что доктор Курбатов велел его унести отсюда, чтобы лед не таял. При этих словах в Трубецкую точно вселился бес и она с криком приказала поставить ледник на его старое место, говоря, что если доктор Курбатов сказал, что лед здесь будет таять, значит он не будет таять - перенести сейчас же, и воспользовавшись первой же остановкой на станции. Она смотрела, как переносили ледник, а со следующего же дня пришлось покупать лед ежедневно, платя за него бешенные деньги, чуть ли не по 3 рубля пуд, а до тех пор конечно покупали, но лишь раз в неделю (когда ледник был в другом вагоне). Думаю, что она порадовалась немало, когда узнала, что я совсем оставил поезд в сентябре, со времени начала занятий в Клиниках. В это время доктор Моллов, отслуживший свой трехго-дичный срок, вышел в отставку и уехал в Болгарию, а на его место был назначен я - штатным ординатором мужской половины Хирургической клиники, и временно состоял на прежнем своем месте. Разница в службе была небольшая, но тут мне дана была уже казенная квартира, правда она состояла лишь из 4-х комнат небольших и кухни общей на дворе, но она была с отоплением здесь же на клиническом дворе. Оригинального устройства была эта квартира, она состоя-ла всего из четырех комнат, из которых три выходили окнами на Кузнецкий мост, поэтому уличная трескотня раздавалась в ней невероятная. Теперешние люди и представить себе не могут, что это такое было, потому что ведь тогда не было еще резиновых шин на колесах, а лишь железные и по Кузнецкому мосту не делалась асфальтовая мостовая; к тому же старались ездить по этой улице возможно быстрее, чем по другим. Уличный треск бывал до такой степени силен, что иногда нельзя было слышать собственную речь. Не помогало и закрывание окон, но потом с этим как-то свыклись, зато зимой было хорошо: тепло, светло, от полов и вообще ни откуда не дуло. Окна во всей квартире были расположены довольно низко от пола, гораздо ниже, чем это обыкновенно делается теперь, но зато расстояние между верхним краем окна и потолком было большое, так что сразу казалось, что окна находятся почти на полу. Эти окна были совершенно квадратные, а стекла в них чуть ли не из целого листа, поэтому все окна, несмотря на то, что в нем было всего четыре стекла, давали много света. Необходимого учреждения в квартире не было совсем. Ближайшим соседом нашим был Н.А, Богданов, письмоводитель в конторе клиники, впоследствии смотритель в Павловской больнице; я отчасти содействовал его переходу в Павловскую больницу, потому что тогда он был еще довольно молод и не настолько глуп, как оказалось потом. Вместе с ним жил брат его врач Старо-Екатерининской больницы, несомненно умный человек Платон Алексеевич Богданов, женившийся на свет-лейшей княжне Ливен и занявший место управляющего делами в Московском учебном округе, когда попечителем округа был назначен его свояк профессор Боголепов, потом ставший министром народного просвещения, убитый за свою деятельность, враждебно направленную против учащейся массы. В этой квартире, называвшейся “маленькой”, я прожил около года, а потом, когда выехал из казенной квартиры декан Полунин, мне дали его квартиру, в том же здании, но в первом этаже, одним ходом на Кузнецкий мост, а другим на клинический двор. При этой квартире была и отдельная кухня, но внизу в полуподвальном этаже; необходимого учреждения тоже не было, как и вообще во всех клинических квартирах. Старинные архитекторы считали устройство этих мест в квартирах ненужной роскошью. Это новое помещение было конечно лучше; оно состояло уже из шести комнат, из которых четыре были громадные, особенно зал, из которого пять больших окон выходило на Кузнецкий мост. У нас не было такой массы мебели, чтобы хотя сколько-нибудь наполнить эти сараи и потому они казались почти пустыми. Неудобство квартиры состояло в том, что окна были довольно низко от тротуара и потому всякий идущий по улице, мог свободно видеть все, что делалось в комнате. Но удобство в ней было то, что выход был на Кузнецкий мост, и была с ходом из передней особая комната-кабинет с окном на двор, а также в том, что все это здание было на углу Рождественки и Кузнецовского моста и здесь постоянно был городовой, стало быть, была полная уверенность в том, что не заберется никакой вор ночью с улицы, а со двора его не впустил бы постоянно дежуривший дворник у ворот. И действительно за все время, пока мы там жили, не было ни у нас, и ни у кого либо из живущих там, случая кражи. Впоследствии когда Клиники были переве-дены на Девичье поле, все это здание было сломано, а на месте его воздвигнуто новое, громадное и красивое, в котором помещается Лионский кредит. В маленькой квартире родился Федя. Когда мы перешли в Полунинскую квартиру, в которой первое время нас отчаянно ели блохи, началась перестройка того крыла здания, которое тянулось по Рождественке. Оно было такого же устройства, как и наша маленькая квартира, но стало уже совершенно ветхим, а тем не менее в нем жили ординаторы клиники, жили припеваючи, наживали хорошие деньги. Всем помогала фирма. Когда эта перестройка была закончена, но внутри еще не все было отделано (всего шесть квартир), тогдашний экзекутор конторы Ал.Ал. Дмитриев облюбовал себе наилучшую квартиру и приказал даже подрядчику спешить с отделкой ее, сушкой, и даже внес в нее некоторую часть своей мебели. В это время ректором был Н.С. Тихонравов, он недолюбливал Дмитриева, приехал в клинику, обошел всю постройку, зашел и в квартиру, намеченную себе Дмитриевым, спросил чья это мебель, и когда ему сказали, что Дмитриева, наметил квартиру эту себе и внес в нее свою мебель. Он был рассержен таким самоуправством Дмитриева и сказал, что квартиры он распределит сам, кому какую, а ту, которую занял себе Дмитриев, он теперь же предлагает ординатору Курбатову. Я, конечно, согласился охотно и предложение и согласие были сделаны публично в присутствии многих лиц, в том числе и Дмитриева, которому это было не вкусу. Ректор, уезжая со двора, прибавил еще, что через неделю он приедет опять, и чтобы к этому времени квартира Курбатова была совершенно готова - сообщить об этом подрядчику. Через неделю все было готово, и мы перебрались опять в новое помещение, состоявшее из 6-и комнат с кухней и клозетом и парадным ходом на Рождественку, а черным во двор. Она была во втором этаже, довольно поместительная, довольно светлая и самая удобная из всех трех казенных квартир. В ней я оставался до конца моей службы в клинике. При распределении квартир Тихонравов сделал так, что подо мной в нижнем этаже, на который не было обращено почти никакого внимания, поместили самого Дмитриева, который должен был смотреть за тем, чтобы работы всюду велись одинаково. Ему досталось наихудшее помещение, и он потом часто говорил, что он сушит квартиру своей грудью и грудью детей. Вообще этот Дмитриев был плут и прохвост отъявленный, получал всего жалованья 50 рублей в месяц, имел семью из 5-и или 6-и ребят и в то же время находил возможным держать лошадь, а летом нанимал дачу для себя и семьи, платя за нее во всяком случае не менее 100 рублей. Он наживал на всем, что шло через его руки, а особенно на кухне и дровах. Здесь он проделывал разные штуки и был неуязвим, настолько хитро обставлял дела свои. Живя в перечисленных трех казенных квартирах, я близко познакомился с Дмитрием Владимировичем Соколовским, с которым впоследствии установились самые дружеские отношения, продолжавшиеся до его смерти, а через него и со всеми его приятелями, из которых особенно замечателен был Михаил Иванович Дружинин. Он стоит того, чтобы сказать о нем несколько строк. Он был родом костромич и говорил, что у его отца в Костромской губернии 6 деревень, а момент спустя добавлял: “в приходе”, т.е. его отец был сельский священник. Михаил Иванович служил в это время младшим ординатором в Басманной больнице, жил где-то в Лялином переулке за Покровкой и жил бедно. Он задумал держать экзамен на доктора и с этой целью часто бывал у Соколовского, который задался той же целью. Тут-то я и познакомился с ним. Он стал бывать у меня и довольно часто. У меня в комнате была постоянно очень хорошая собачонка, уже не молодая, по имени Мишка, которую подарил мне доктор Моллов, когда уезжал в Болгарию. Я любил эту собачонку, и она, кажется, отвечала любовью со своей стороны, часто при Дружинине подходила ко мне, ласкалась и просилась особым голосом, когда ей нужно было выйти. Михаил Иванович, видя наши взаимные с собакой отношения, тоже относился к ней ласково и даже иногда приносил ей кусочек сахара. Однажды случилось так, что Мишка заболел, все лежал, а иногда вскакивал, бегал по комнате и визжал. Очевидно он страдал от какой-то боли. Дружинин тоже заметил это, мы вместе начали осматривать и убедились, что у него болит зуб: при малейшем прикосновении к одному из коренных зубов, в котором было даже дупло, Мишка визжал отчаянно. Ввиду того, что зуб сидел не крепко, мы решили вынуть этот зуб. И вот на завтра М.И. нарочно пришел ко мне из дома, принес с собой хлороформ, усыпил Мишку и вынул у него зуб. Мишка скоро очнулся, уже не визжал, а только облизывался, а потом забился под диван и проспал там несколько часов. На завтра он был по своему обыкновению ласков и здоров. А вечером зашел Михаил Иванович справиться об его здоровье. Ну где можно найти еще подобное проявление внимательности? Я конечно решил отблагодарить его чем могу. Но чем же? Не деньгами же. Из дальнейших наших бесед я узнал, что ему не нравиться оставаться в Басманной больнице, где положение его было шаткое, и я задумал предложить ему мое место, так как через несколько месяцев кончался срок моей службы. Оказалось, что ему это-то и нужно было. Он уже давно учел все дело и ему только и нужно было, чтобы начать его. А вот и представился удобный случай для начала. Он, конечно, рад был моему предложению, но выполнение его зависело не от меня, а от Басова, которому нужно было указать на Михаила Ивановича. Я взялся это сделать и при случае поговорить с Басовым, если конечно сам он начнет речь об этом, а до тех пор посоветовал Дружинину почаще ходить в клинику и садиться не на задние места амфитеатра, а где-нибудь посередине так, чтобы Басов заметил его. Так и сделали. Недели через две Басов спросил меня, кто это такой в очках с меткой на лбу (у Дружинина была ямка на левой стороне лба, оставшаяся от бывшей здесь раны). Я конечно ответил, что знаю его и назвал по имени. А зачем он ходит сюда? Затем, что у него есть свободное время и он хочет с пользой затратить его, улучшая и накопляя знания. Ну пусть ходит. Пригодится. Таким образом дело стало налаживаться и ему нужно было дать его естественное течение, не изменять путь. Так все и случилось. В августе или сентябре, перед тем как оканчиваться сроку моей службы, дело Михаила Ивановича стало уже настолько прочным, что Басов переговорил с ним и сказал ему, что он его представит на баллотировку на мое место, а 9-го октября в факультете или Совете университета состоялось в одно и то же заседание три баллотировки: 1) Басова самого еще на пять лет в должности Заслуженного профессора; 2) меня за границу на полтора года на счет казны и 3) Михаила Ивановича Дружинина на мое место на 3 года. Все баллотировки имели положительный результат. Михаил Иванович торжест-вовал, а люди, хорошо знавшие весь путь его к достижению цели, как например Дмитрий Васильевич Соколовский только втихомолку посмеивались и говорили, что иногда и собачка может оказать человеку протекцию, намекая на собаку Мишку. М.И.Дружинин повел дело хорошо, но потом когда он стал самостоятельным, все дело перепортил; он по натуре своей создан был к тому, чтобы действовать по указанию других. При Склифосовском, занявшим кафедру Басова после его смерти, Миша Дружинин устроил хирургическую лечебницу, в которой оперировал Склифосовский, а он хозяйничал, но так неудачно - ломал направо и налево, и так беззастенчиво обирал больных, что в скором времени принужден был закрыть ее, но все же успел оправдать все расходы, которые произвел на нее, далее благодаря тому же Склифосовскому попал главным доктором городской больницы в Одессу. Мы предсказывали ему, что если он не оставит свои медвежьи костромские обычаи в обращении с людьми, ему не сдобровать, и во всяком случае ровно через год после прибытия в Одессу, если он не сломает там себе шею, пусть возьмет отпуск и приедет в Москву, чтобы отслужить благодарственный молебен Иверской Божьей Матери. Но он не послушал нас: по приезде в Одессу начал ломить все без разбора, познакомился с тамошним Генерал-губернатором адмиралом Зеленским, и начали ломить в больнице уже вдвоем. Они упустили из вида то, что евреи все вообще и всюду отлича-ются своей сплоченностью и стоят друг за друга там, где есть возможность, а в городской больнице в Одессе из сорока врачей половина были жиды. Они-то и подставили ножку Мише Дружинину и притом так ловко, что и Зеленский не нашел ничего лучшего, как предложить ему уехать отсюда поскорее, что он и сделал. Но тут ему судьба помогла: он скоро получил место, т.е. кафедру топографической анатомии и оперативной хирургии в Юрьевском (Дерптском) университете, откуда, однако же, должен был меньше чем через полгода удалиться, так как оказалось, что у него началась спинная сухотка (tabes), которую он и повез на свою родину на Волгу в Костромскую губернию и там на берегу реки докончил дни свои в печальном положении, в каком кончают все подобные больные - табетики. Другое лицо, с которым я познакомился у Соколовского был доктор Александр Федорович Федоров. Этому человеку судьба сразу улыбнулась, а потом отвернулась от него, увидавши хорошенько, что это за птица, даже плюнула на него. Это был постоянный запойный пьяница. Через месяц или немного более по окончании курса в Москве он уже ездил на своей лошади, имел порядочную квартиру, служил в Воспитательном доме и в тоже время врачом при правлении Либаво-Раменской железной дороги, где получал очень солидное жалованье, особенно для молодого врача. Это ему так вскружило голову, что он начал думать о себе гораздо больше, чем следовало и ставил себя очень высоко. С этим себя возвеличиванием он носился всю жизнь. Но в то же время в нем было развито и чувство товарищества, под влиянием которого он вышел в отставку из Воспитательного дома вместе с другими врачами, когда оттуда погнали доктора Кватца за то, что он не хотел сказать лично кучеру Почетного опекуна, управляющего Воспитательным домом Борису Ал. Нейргардт, чтобы он, кучер, ехал к другому подъезду, говоря, что на то есть прислуга, например, швейцар. В виде протеста распоряжению Нейгардта вышли несколько врачей из Воспитательного дома, а вместе с ними и Федоров. Его товарищи не забыли это и помогали ему всячески, например, он состоял врачом при городской амбулатории, не показывался в ней вследствие пьянства 8 месяцев, и его товарищи ежедневно исполняли его обязанности во все это время. Потом он поступил врачом в Константиновский Межевой институт, где продолжал пить и не являлся на службу. И здесь тоже выручали товарищи, но потом погнали его и отсюда. Благодаря товариществу ему дали от города пенсию в 800 рублей в год, по ходатайству тов.городск.головы Д.Д. Дувакина (тов. по университету). Светлые периоды бывали у него короткие, недели по две, не более. В это время он был обыкновенным человеком, но только заносчивым и подчас дерзким, а потом запивал, начинал, когда еще не совсем запьянел бить жену и детей, ломать мебель, бить посуду, вообще проявлял разрушительные наклонности, а когда сваливался окончательно, то уже не недели три-четыре с постели, прогнивал матрац, потому что все естественные отправления совершал без сознания, належивал себе пролежни сквозь всю кожу спины и если говорил что-нибудь, так просил водки, а ел лишь что-нибудь очень соленое или маринованное. В пьяном состоянии он и умер. Была у него страсть к водке наследственная или он развил ее сам, как благоприобретенное достояние, сказать теперь трудно. Я знаю только, что детство его было хуже моего, а материальные условия семьи, в которой он рос, совсем плохи. Но все же, особенно в первое время, у него была довольно хорошая детская практика до тех пор, пока он сам не напортил все дело. Недостаточное образование, а более всего отсутствие порядочности в воспитании сделали свое дело и из такого неглупого человека по рождению вышло что-то нелепое, уродливое, он был тираном для своей семьи и несчастная жена его Варвара Константиновна всю жизнь маялась с ним и несла тяжелый подвиг, даже одно время решилась было на само-убийство, но что-то помешало. Старший сын его ушел на Афон, будучи в 4-м классе гимназии, тайно от отца, и там постригся в монахи, а потом прислан был в Петербург и служил диаконом в Афонском монастыре, привлекая к своей наружности внимание столичных дам. Он был очень красив. К кружку Д.В. Соколовскрго принадлежали еще Стани-слав Иосифович Чирвинский, впоследствии ставший профессором фармакологии Юрьевского, а потом и Московского универ-ситетов. Он был очень ловкий и хитрый человек, но вместе с тем и деликатнейший. Сделавшись профессором фармакологии в Москве, он после смерти профессора фармации и фарма-кологии незабвенного Владимира Андреевича Тихомирова поднял вопрос о том, чтобы обе эти кафедры соединить в одну и достиг своей цели. Он стал, таким образом, главным и почти единственным экзаменатором фармацевтов (кроме химии и ботаники) и поселился в квартире Тихомирова. Я не знаю, были ли у него какие-нибудь ученые труды или работы, конечно, кроме диссертаций, но через его руки проходило немало посторонних докторских работ, которыми он руководил. Я был знаком и с семьей его. Он, зная что я в хороших отношениях с Тихомировым, когда брат его был попечителем Московского учебного округа, обращался ко мне за содействием об улаживании некоторых дел, которые возникали у него с сослуживцами или подчинен-ными. Вообще он пользовался всегда людьми, которые могут, хотя бы косвенным образом принести ему пользу и заискивал перед ними. Через Соколовского же я познакомился и с Ионой Дмитриевичем Сарычевым, прослужившим последние 12-15 лет своей жизни в должности главного доктора Старо-Екатерининской больницы для чернорабочих. Я был даже его посаженным отцом. После его свадьбы он скоро занял место старшего врача в первой городской больнице (главным был доктор Климов), и мы часто видались с ним, как соседи, а потом, когда он переехал в Старо-Екатерининскую больницу, на другом конце города, стали видеться все реже, если не считать встреч в заседаниях Хирургического общества, где он бывал и председателем и вице-председателем. Последние дни и даже годы его жизни были для него и его жены очень печальны: он начал часто прихварывать, с ним делались припадки эмболии головного мозга, под влиянием которых он конечно терял сознание и оставался в таком положении по нескольку дней, пока восстанавливалось кровообращение в закупоренной части мозга. Наступившая революция сильно повредила ему и совершенно разорила: все сбережения его, какие только могли у него скопиться, были обращены в процентные бумаги, которые были объявлены Социалистическим Правительством аннули-рованными и у него не осталось ничего. После его смерти жена его, Мария Александровна, совершенно не привыкшая к черной работе, на стрости лет сама вынуждена была стирать белье и жила где-то около храма Спасителя. Вся семья ее, т.е. сестра с мужем и детьми, из которых одни были в плену, а другие на войне, должны были оставить ее, ей не на что было жить и одной. Сам Иона Сарычев был по происхождению донской казак, но не имел в себе ни малейшей казачьей удали: это был самый мирный человек, работящий, служака, говоривший ”чин чина почитай”, не корыстолюбивый, но и не расточительный, жил очень скромно, иногда лишь любивший перекинуться в картишки (винт). У дальних предков его было родство с Емельяном Пугачевым, но по приказу матушки Екатерины II приказано было, чтобы все родные его, Пугачева, переменили свою фамилию, дабы не было впредь на Руси и напоминания об его имени, родственники стали именоваться Старычевыми. Отец его был казачий генерал и имел большой надел земли в области войска Донского. Но что же представлял собой сам Дм.Вл. Соколовский, может быть спросит читающий эти строки. Скажу несколько строк и об нем. Он был сыном мелкого чиновника в Арзамасе, после уездного училища поступил в гимназию, а потом в Московский университет, где профессор Соколовский был его дядя. У него он и жил и, по-видимому, дядя имел на него влияние. По окончании курса он тотчас же поступил ординатором в Акушерскую клинику, которой заведовал Ал. Матв. Макеев и, стало быть, сделался врачом-акушером, а так как акушерство стоит в ближайшей связи с гинекологией, то и женским врачом. После клиники, где он пробыл три года, он нигде не служил, а занимался лишь частной практикой. В этом-то отсутствии больничной школы и был недостаток его: гинекология его времени стала на рациональный путь - оперативный, а до тех пор ограничивалась исключительно терапевтическими меро-приятиями. Что оперативный путь стал наиболее рациональным, это видно уже из того, что при некоторых больницах стали устраиваться чисто гинекологические отделения, в которых производится масса операций (гинекологическая клиника, отделе-ние при Голицынской больнице, при Старо-Екатерининской больнице, в Городской и др.) и даже появились частные женские больницы-лечебницы, например Штрауха и Венера, Александрова, при лечебнице Евангелического общества. Сколько мне известно, он не оперировал сам лично и в таких случаях, где это было неизбежно, приглашал меня (хотя и имел все инструменты, нужные для операций). Стало быть, он ограничивался исключительно акушерской практикой или подачей советов на словах, а на этом экипаже далеко не уедешь, тем более, что в Москве развелось много родильных приютов, да и в родо-вспомогательных учреждениях стали вполне нормальные современные порядки. Стало быть, заработки его были небольшие, но и тут он делал много непроизводительных расходов, например, держал свою лошадь, что, конечно, стоило ему гораздо дороже, чем если бы он брал извозчика, при небольших его разъездах. Кроме того, у него была некоторая страсть к коммерции, и он то покупал имение, то устраивал завод для выделки огнеупорного кирпича, но не имея сведений для ведения в них дела, сажал туда управляющих, которые прежде всего не забывали себя лично. Он очень любил заниматься общественными делами, был революционер по убеждению, а купивши тотчас за Дорого-миловской заставой 3 десятины земли, устроил там завод для выделки какого-то особенного кирпича, из черепков бывших глиняных горшков, которые нужно было собирать и привозить к нему. На этом его нагрел управляющий, а товар не нашел себе сбыта. Он вступил в компанию с каким-то князем Голициным и они устроили завод в Боровичах (Новгородская губерния) и стали выделывать чрезвычайно красивый и очень плотный материал - пирогранит, но и на это не было покупателей и Голицин прогорел, а вместе с ним прогорели и 12 тыс. руб. Соколовского. Тогда он, в компании с 10 лицами начал строить кирпичный завод при станции Павлово-Нижегородской железной дороги. Написали доверенность на ведение всего дела присяжному поверенному Вышеславцеву, возвели здание почти до крыши, а тут Вышеславцев внезапно умер, имуществом его восполь-зовались наследники и кредиторы, а компаньоны не получили ничего, потому что доверенность, данная Вышеславцеву, ради экономии, не была написана на гербовой бумаге, не заявлена у нотариуса, а теперь, чтобы считаться компаньоном, нужно было платить штрафа гораздо больше, чем компаньонского взноса. Так и бросили все дело, а недостроенное здание осталось стоять до разрушения силами природы или трудами соседей, любящих поживиться чужим имуществом. Когда я поступил на службу в Даниловскую мануфак-туру, я пригласил его в фабричный родильный приют консуль-тантом по акушерству и он должен был приезжать к трудным родам, когда за посылалась лошадь. За каждый приезд его ему полагалось по 15-и рублей. Но в общей сложности это для Москвы составляло ничтожную сумму. Я сказал выше, что он любил заниматься общественными делами и, купивши три десятины земли, сделался гласным Московск. управл. земского собрания, что его вполне удовлетворяло, особенно после того, как он стал председателем училищного совета. Ему хотелось быть Гласным Московской городской Думы, но на это у него не было ценза. Чувство товарищества в нем было сильно развито, и он не жалел своих скудных средств, чтобы поднести в какой-либо юбилейный день своему сотоварищу то адрес в дрогой папке, то какой-нибудь изящный подарок. И то и другое есть у меня и куплено, конечно, по его инициативе. Он не писал ничего и читал очень мало, а, стало быть, не мог участвовать ни в какой беседе по поводу текущей литературы; у него на столе в комнате, в которой ожидали своей очереди больные, лежали лишь такие журналы, как например “Нива” или что-либо подобное. Единственная дочь (вполне неудачная) и жена его остались после него совершенно без всяких средств. Он умер от остро-гнойного воспаления мозговых оболочек за несколько дней до отречения Николая II от престола, проболевши трое суток и не приходя в сознание. Его похоронили на Ваганьковском кладбище, но так близко от жилых помещений тамошних церковно-служителей, что могила его вероятно сгладится. Жена его Ольга Дмитриевна, моя кума, скоро умерла после мужа в Старо-Екатерининской больнице от рака, который после операции на груди, дал метастазы во всех брюшных органах. Дочь осталась одна, как перст со своим малолетним сыном Ростиславом. Московское земство, которому он отдавал всю свою душу, не могло оказать ей своей помощи, потому что само едва дышало, а с наступлением новых порядков в России, прекратило свое существование. Так бесследно прекратилась и память об этом несомненно честнейшем человеке, отзывавшемся на все доброе и общественное. Я не сказал еще ничего, или почти ничего, еще об одном своем сослуживце Петре Петровиче Отрадинском. Он служил ординатором в клинике профессора Черинова (пропедевтическ.), был сыном полицейского врача Мясницкой части, жил, стало быть, в самом центре города, в здании Мясницкой части, в котором и родился, поблизости самого беспокойного места в Москве - Хитрова рынка. Он был очень хорошо знаком с химией, ради которой даже нарочно остался на 2-й год на курсе. Его очень любил профессор химии Лясковский, а потом эта любовь перешла к заместителю Лясковского Марковникову. Он был очень хороший врач-терапевт. Как человек он был очень отзывчивый, добрый, внимательный, деликатный, особенно с больными, но недолюбливавший заносчивых, обзывал их всегда дурашками. Он был религиозным, посещал церковные службы, особенно всенощные в разных церквах и, как по отцу происходивший из духовного звания, с уважением относился к духовным лицам, если только они своими действиям не вызывали нареканий. Он пользовался в Москве довольно хорошей практикой, особенно среди богатых купцов, как, например, Чижовы со всей родней, Лямины, Константиновы, Губкины и др. Многие из них видели в нем подходящего жениха для своих взрослых дочек и ухаживали за ним, что, конечно, было ему известно. Так он был врачом в Практической Академии коммерческих наук, в котором председателем совета был Ал. Ив. Абрикосов, и где училось много московских и иногородних купеческих сыновей, то это способствовало еще большей известности его имени между купцами. Эти же богатые купцы вовлекли его в свой круг, в котором он вращался, по-видимому, с удовольствием, привык к нему, и стал прельщаться деньгами, хотя и не гнался за ними. Круг знакомства его был довольно большой, судя по тем вечеринкам, которые он устраивал по временам для своих знакомых; на этих вечеринках из врачей бывал лишь я один и изредка М.И. Чиж; вообще он как-то мало сходился до близости с врачами и многих из них относил к числу дурашек. По временам лишь он точно впадал в какой-то раж, становился необычайно для него дерзким и резким, но это скоро проходило и он возвращался к своему обычному благодушию. Хотя он был известный московский врач, но не следовал обычаю других врачей, не назначал никакую плату за свой труд, а доволь-ствовался тем, что платили сами больные, а они иногда проделывали с ним, как со всяким другим врачом непозволи-тельные штуки, что и пришлось испытать и мне самому неоднократно. Он был постоянным врачом в семействе А.Сем. Губкина, нового московского купца, прибывшего из Сибири. Но ввиду того, что теперь уже нет Губкина на свете, а осталась лишь фирма его “Наследники Губкина”, я скажу здесь о нем несколько слов, предупреждая, что эти сведения получены мною от Отрадинского. Основатель фирмы Алексей Семенович Губкин много лет тому назад был в Сибири ямщиком, держал и сам ямщину между 2-3 станциями большого Сибирского тракта и в то же время возил товары, а иногда ездил и сам вместо ямщика. Потом как-то он пропал на 10-15 лет и никто не потревожился разыскивать его; в Сибири тогда было обычное явление, что человек пропадал незнамо куда; а Губкин был ямщик и потому решено было вероятно, что его убили беглые каторжане, которых масса бродила по всей Сибири. Однако же, лет через 10-15 лет он нашелся. Где он был, никому по угрюмости своего нрава, не сказал, но было ясно, что он объявился с большими деньгами. Стали на досуге раскапывать дело и доискались до того, что вспомнили, что одновременно с исчезновением ямщика Губкина пропал с большого тракта и богатый сибирский купец, ехавший в Москву с большими деньгами; но придраться к этому никто не желал, тем более, что купца уже не воротишь. Мог бы начать дело судебный заседатель, но и этот ничего не предпринимал уже потому, что Губкин в скором времени по своем появлении вступил в дружеские отношения с ним и с другими властями. Иначе говоря платил им большое как бы жалованье, что бы они не мешали дело делать.Таков был порядок в старое доброе время. И вот Губкин начал вести большую торговлю чаем и сахаром. Из Москвы он вез транспорты сахара и других товаров, которых нет в Сибири, а из Сибири вез в Москву чай. Дела шли более чем хорошо, он быстро богател и начал даже благотворить. Это было уже признаком того, что у него не один, а несколько миллионов без оборотов. Начал он свою благотворительность с того, что сделал на свой счет мостовую в городе Кунгуре (Пермск. губернии) откуда сам был родом, устроил там освещение, водопровод и наконец в довершение всего техническое училище, т.е. купил для него усадьбу, построил здание и обеспечил его существование внесенным капиталом. Конечно, такая деятельность его стала известной в высших сферах петербургского чиновного мира и ему сразу дали “полезное” - чин действительного статского советника и станиславскую звезду. Тут-то он и переехал в Москву, не покидая сибирскую торговлю и имел уже на плечах около 80 лет. Он купил себе в Москве роскошный дом, особняк на углу Рождественского бульвара и Кисельного переулка, построенный известным инженером Ф. Мекк. Он купил его со всем тем, что в нем было, а потом оказалось, что в подвалах его было одних вин на сумму большую, чем та, которую он заплатил за весь дом. Когда, случалось, что ему говорили, что он сделал выгодную покупку, он отмалчивался, а если собеседник продолжал свой разговор, дедушка только и говорил: “А что тебе до того? На чай, небось хочешь?” Вот и случилось как-то, что старик заболел и довольно серьезно. Совершенно случайно, впрочем, попал к нему Отрадинский, вылечил его, и с тех пор установились между ними добрые отношения, которые не покидали их во всю жизнь старика. Когда старику было уже 80 лет, он захотел вновь испытать молодость и с этой целью поехать за границу, где он до тех пор никогда не бывал и предложил ехать с ним Отрадинскому на подходящих условиях. Тот принял пред-ложение. Поехали. За границей пробыли неделю, и здесь Петр Петрович увидал, что он имеет дело со страшным скрягой, учитывающим каждую копейку, и, вместе с тем, бросающим сотни рублей непроизводительно. Там он был постоянно угрюм, может быть потому, что не знал тамошнюю речь и думал, что его обманывают окружающие его, т.е. и Отрадинский. Домой возвратились, конечно, в том же положении, в каком выехали - попытка стать молодым оказалась неудачной. Скоро по возвращении домой, в Москву, с ним сделался удар, повторился и прикончил дни старца. Когда его хоронили, приказчики раздавали медные пятаки нищим через решетчатые ворота двора. Нищие собрались по какому-то чутью в громадном количестве и так напирали друг на друга, что несколько человек задавили, в дело раздачи вмешалась полиция, и оно пошло лучше, давка прекратилась. Наследник, внучек Александр Кузнецов получил в наследство все, что осталось от дедушки и несмотря на то, что были приняты серьезные меры к тому, чтобы скрыть стои-мость наследства, все же пришлось заплатить наследственных пошлин с 17 1/2 миллионов. В это время уже была открыта торговля чаем и сахаром под фирмою “Наследники А.С. Губкина, Кузнецова и К” в верхних торговых рядах, на углу Никольской и Красной площади. Наследник Кузнецов, холостой, чахлый человек за 30 лет, сам не знал в чайной торговле ровно ничего и поручил вести ее другому лицу, выбранному дедушкой, стало быть, надежному (Владимиров), а сам остался праздношатаю-щимся. Первым делом он продал свой дом на Рождес-твенском бульваре, а купил себе свой уже на Малой Дмитровке, затем купил имение где-то в Смоленской губернии, потом имение в Крыму (Форос), ссек там какую-то скалу, а на ссеченом месте построил церковь в Византийском вкусе. Все это вышло очень красиво, но малодоступно, потому что для того, чтобы попасть в церковь, нужно сделать не менее 10 верст по скалистой дороге. Вокруг Кузнецова терлось немало дальних родственников и хороших знакомых, которые не оставляли его своим вниманием и аппетитом. Ему очень хотелось войти в круг Московского дворянства, но это было не так-то просто. Не удалось. Ему, как чахоточнику, не следовало жить зимой и осенью в Москве, а жить где-нибудь на юге, в Крыму например или даже на Средиземном море. Чтобы быть совершенно свободным в выборе места в любое время, он купил себе яхту за триста тысяч рублей и начал ездить на ней по Средиземному морю вдоль и поперек, а иной раз выезжал и на остров Мадеру, где жила тоже чахоточная сестра его (Ушкова). В один из таких переездов он заболел, у него явилось кровохарканье, которого он особенно боялся и несмотря на то, что на яхте был постоянный врач, он все же выписал из Москвы Отрадинского в Канн, и, когда Отрадинский уезжал, он вручил ему пакет на имя главной конторы его в Москве, сказавши, что это приказ в контору выдать Вам деньги за приезд сюда. Отрадинский вез этот пакет бережно, предполагая, что тут лежит огромная сумма, на самом же деле было распоряжение о выдаче Петру Петровичу 2-х тысяч руб. Это, конечно, немного, если считать, что он потратил на проезд свои деньги в оба конца и был оторван от Москвы на три недели. После этого случая Кузнецов прожил еще года 2-3, и кому досталось все его громадное состояние я не знаю, вероятно раздробилось между многими. Кузнецов в Москве ничем себя не зарекомендовал и памятник не создал. Я записал все это для того, чтобы показать между какими лицами вращался мой хороший друг Петр Петрович. Познакомился я с ним в то время, когда уже жил в малень-кой казенной квартире, т.е. мало того, что познакомился, но близко сошелся, а потом и со всеми его родными и знакомыми. Жил он в это время со своим братом Михаилом Петровичем, присяжным поверенным, у Мясницких ворот, против Главного Телеграфа, причем часть окон его квартиры выходила вдоль на Мясницкий бульвар. Место очень хорошее. Потом он переехал на угол Мясницкой и Садовой в дом Гагмана; живя в этой квартире уже по возвращении моем из Парижа, он женился на Надежде Васильевне Волжаниновой, у которй было небольшое состояние, но была тетка, про которую говорили, что у нее миллион, и что Надежда Васильевна прямая наследница, но, когда тетка умерла, не оказалось и одного миллиона, а сделано было завещание, по которому многое переходило в другие руки, в том числе и монахам, а Надежде Васильевне, ее сестре и брату только по 50 тыс. рублей. Это так повлияло на Петра Петровича, что у него в скором времени развилось психическое заболевание, постепенно обострявшееся и окончившееся тем, что этот всегда опрятный, деликатный и набожный человек, стал грязен и нечесан, и начал бранить Бога нехорошими словами. Он умер в Алексе-евской больнице для душевнобольных, в которой был несколько лет. В последние годы он настолько свыкся со своим положением, что нисколько не стеснялся им, был доволен и находил, что ему здесь лучше, чем в Москве. Я, в качестве консультанта по хирургии, часто бывал в этой больнице и навещал бывшего друга, но влачившего уже жалкое существование. Что всего ужаснее было в состоянии так это то, что он вполне сознавал свое положение, знал, что ему уже никогда не возвратиться к былому, что окружающие его почти такие же страдальцы, как и он сам, и от могущей быть скуки он начал переводить с немецкого языка на русский какую-то медицинскую энцикло-педию. О семье он при мне никогда не говорил ни слова и, по-видимому, совершенно не интересовался ею. Однажды, месяца за три до смерти, он приходил ко мне в Павловскую больницу и в разговоре интересовался узнать, что за последнее время появилось нового в медицине. Положение его отчасти было такое же, как мое теперешнее: я тоже сознаю, что вернуть мое прошлое невозможно, но не вследствие болезни, про которую можно еще думать, что она излечится, а вследствие старости, которая не излечивается, и вследствие социальных условий, изменить которые я не могу, да и никто из близких мне не может. Как он переводил от скуки энциклопедию, так и я пишу все это. После его смерти несколько лет спустя разъяснилась причина тех странностей, которые были почти у всех членов семьи Отрадинских: три сестры Петра Петровича были с большими странностями, брат Михаил Петрович умер в психиат-рической лечебнице от быстро протекавшего прогрессивного паралича. Оказалось, что мать их Вера Степановна почти до старости страдала припадками падучей болезни (Epilepsia), которую они все или не знали, или так тщательно скрывали, что об этом почти никто не знал.
Когда я жил в клиниках, меня часто приглашали в экстрен-ных случаях к заболевшим приезжим в “Лоскутную гостиницу” и в “Славянский базар”. Одно из таких приглашений было к Сумарокову, жившему в Лоскутной уже несколько лет. Это был барин среднего состояния, когда-то богатый, костромич, где у него было большое имение. Он заболел апоплексией. Когда я приехал к нему, он был в бессознательном состоянии. Около него был сын его - инженер Василий Сергеевич, служивший на Нижегородской железной дороге. Так как положение больного было безнадежное, то вскоре приехала и жена его и другие сыновья; со всеми ними, конечно я перезнакомился, особенно же с Василием Сергеевичем, добрые отношения с которым продолжались и потом до самой его смерти. Это был замечательно честный человек, неподкупный инженер, хотя ему, по его должности представлялось много соблазнов к наживе крупных сумм. Он своей службой составил о себе хорошее мнение у многих лиц, в том числе и у управляющего дорогой Рерберга - немалой шишки в железнодорожном мире тогдашнего времени. Впоследствии мне пришлось часто бывать у Сумаро-кова, потому что я лечил его больную жену. Это была замечательно красивая особа, говорившая, кажется, на всех европейских языках, была в разводе с мужем, кажется, военным человеком, каким-то Григоровичем, который сообщил жене свою самую ужасную скверную болезнь (lues). Она жила после развода за границей, именно в Дрездене. Здесь же познакомился с ней и Василий Сергеевич, когда по окончании Петербургского технологического института, тоже жил в Дрездене, учась там в Политехникуме. Они жили очень дружно, весело; оба были молоды, здоровы. Но вот у нее стали замечаться неровности характера, наклонность к мотовству, запинки в речи, замена одних слов другими помимо ее воли, смесь в речи разных языков; все это замечали не только окружающие ее, но и она сама. Это ее сердило, раздражало, она выходила из себя и путала речь еще больше. Ни о каком лечении тут еще не было и речи. Но вот случился первый инсульт, под влиянием которого она потеряла сознание. Я был приглашен к ней. Это было началом более близких отношений с семьей Сумарокова. При помощи общеиз-вестных мероприятий скоро инсульт прошел согласно предс-казанию, но больная, как это всегда бывает в подобных случаях, уже не могла войти в прежнее свое положение: искалечение ее продолжало нарастать. Тогда, конечно, не могло еще и быть речи о том способе лечения lues`a, который употребляется теперь (я говорю о вливании в вены по методу Эрлиха), а все сводилось на назначение больших доз йодистого калия. Да, кроме того, тогда и не было еще вполне установлено в медицине, что прогрессивный паралич всегда бывает лишь последствием lues`a. Оставалось лишь быть наблюдателем болезни и давать симптоматическое лечение. Все это было сказано мужу больной и он, как умный человек, все это хорошо понял. Ему была названа болезнь по настоящему ее имени, сказано было и какое предсказание при ней и какие надежды на выздоровление. Словом эта беседа была самого неприятного свойства из всех какие выпадают на долю врача. Он понял, что положение его жены безнадежное и спросил, сколько же времени может продол-жаться такое печальное положение. Я, конечно, сказал, что оно может продолжаться еще годы, но сколько именно - никто сказать не может, все зависит от ухода за больной: чем уход лучше, тем жизнь продолжается дольше, потому что устраняются им и всякие могущие быть с больной случайности. После этого он окружил ее самым бдительным надзором и уходом, выписал откуда-то ее родственницу, старую добрую девицу, отдавшую свою жизнь на уход за несчастными больными, которая не оставляла больную ни на минуту в буквальном смысле этого слова, кормила ее из своих рук, одевала, причесывала, меняла под ней постель, когда та не могла вставать. Мы с Василием Сергеевичем для нее особый штучный резиновый матрац, сквозь отдельные куски которого могла бы проходить всякая жидкость (моча) и которые можно было бы менять не тревожа больную. Он заказал такой тюфяк-матрац на фабрике резиновых изделий, и когда он был готов, мы применили его на деле. Он оказался удобным. В это время он жил в Москве, в местности, называемой Сыромятинки. Но вот случилось особое событие: его назначили на новую должность в Петербург, на должность директора департамента всех казенных железных дорог. Нижегородская железная дорога, на которой он служил, была тоже казенная и отказаться он не мог. Он уехал, оставив свою жену на попечении ее сестры и своей матери, а сам приезжал раз в неделю в Москву. Так продолжалось дело некоторое время до тех пор, пока он там устроился, а устроившись окончательно, приехал опять в Москву, позвал меня и Сергея Сергеевича Корсакова, чтобы мы вновь осмотрели больную и решили бы, можно ли везти ее в Петербург и какие нужны для этого приспособления, прибавивши, что если этот переезд может сократить ее жизнь хотя бы на пять минут, то он ее не повезет. Сказавши это, он заплакал и оставил нас вдвоем. Корсаков, привыкший к больным не менее меня, тоже расплакался, видя такое горячее участие к судьбе больного близкого человека. Мы обсудили с ним положение дела и решили, что больную везти можно, что для этого следовало бы приобрести особое кресло, лучше всего из камыша или перенос-ную кровать-кушетку, на которой ее можно было бы отнести из дома на железную дорогу и на нем же внести в вагон, на нем же оставаться в вагоне, на нем же и отнести из вагона на квартиру в Петербурге. Через два дня такое приспособление было готово и исполнило свое назначение. Потом я получил сведения от Василия Сергеевича, что жена его (Нина Григорьевна) жила еще около двух лет, хотя из Москвы увозили ее в таком положении, что она уже не вставала, не повертывалась в постели и могла двигать лишь головой направо и налево. Это все, что осталось у нее от прежних движений. Речь, кончно была забыта. И в таком то жалком положении он берег ее, жалел. Всего в болезненном состоянии она пробыла около 15 лет. Когда я жил в Париже и мне понадобились деньги, вследствие задержки высылки их из Министерства Народного просвещения, я обратился с письмом об этом к Сумарокову, и он прислал мне по телеграфу 250 рублей, которые я потом уже в России уплатил полностью. Он умер в Петербурге внезапно. Накануне он говорил с приятелями, что завтра утром они поедут в Иматру, полюбоваться водопадом, но это не случилось, потому что в тот час, когда ему нужно было вставать, его нашли около кровати уже охладевшим. По своей службе он оставил за собой след, а именно уплату тарифа не поверстно, а по поясам, причем, чем дальше едет пассажир, тем каждая верста в отдельности ему обходится все дешевле и дешевле. Этот новый тариф начал действовать еще при нем, дал свои благие результаты: проезд стал дешевле, количество едущих значительно увеличилось, а железные дороги стали выручать большие суммы. По прежнему тарифу от Москвы до станции “Минеральные воды” на Кавказе проезд стоил 30 рублей с копейками, а по новому поясному лишь 10 рублей с копейками, и количество москвичей в первый же год значительно увеличилось, т.е. железная дорога стала служить большому количеству публики, что и требовалось от нее. Жизнь в клинической квартире давала мне много удобств, кроме того, конечно, что она была казенная, бесплатная, она освобождала меня от всяких сношений с полицией, что для меня было особенно дорого. А расположение ее в центре города, на Кузнецком мосту имело и то значение, что давало хороший заработок. Бывали случаи, что какой-нибудь чудодей, приехавший в первый раз в Москву, конечно, отправлялся на Кузнецкий мост, видел там вывеску клиники находил где-нибудь на двери карточку доктора и заходил посоветоваться, а, стало быть, и заплатить за совет. Такие случайные, так сказать, забеглые посетители оплачивали свои посещения иногда настолько хорошо, что я получал от них гораздо больше, чем за целый день, треплясь по Москве чуть ли не до вечера, но зато бывали случаи, что меня там и обкрадывали, т.е. уносили верхнюю одежду из передней, если зазевавшаяся прислуга не могла вовремя выйти в переднюю. Был однажды случай такой: является какой-то господин и убедительно просит прислугу сказать доктору, что его ждет экстренный больной, которому нужна помощь. Я вышел к нему и он сообщил мне, что идя по Кузнецкому мосту он зазевался на вывески и выставки товаров и, оступившись, упал и при этом сломал себе ногу. Вид больного был интеллигентный, мы разговаривали с ним стоя. Я ему сказал, что он ошибается, что он совсем не сломал себе ногу, а вероятно лишь зашиб ее. “Да почему Вы так думаете?”- спросил он. “Да потому так думаю, что на сломанной ноге не ходят, да еще по лестнице, а Вы вошли ко мне во второй этаж без посторонней помощи, сами.” Он улыбнулся. “Да, говорит, правда, на переломанную палку не обопрешься. А все же я прошу Вас, г. доктор, осмотреть мою ногу.” “Хорошо, войдите в эту комнату.” Он показал мне свою ногу, и на ней кроме самого легкого растяжения голеностопного сустава ничего не было. Я ему сообщил это, посоветовал помассажировать сустав просто рукой, без всякого лекарства и посторонней помощи, прибавивши при этом, что если бы я выписал ему какую-нибудь мазь для растирания, то чтобы он не думал, что это она ему помогла: все дело в растирании. Он это хорошо усвоил и заплатил за свой визит 40 рублей. Я ему сказал, что он платит слишком дорого, а он мне ответил:” Вы мне дали совет, доказали мне, что моя нога цела, а не сломана и тем успокоили меня и убедили в бесполезности в данном случае всякой меры, словом успокоили меня; вот за это то успокоение я и уплачиваю и сожалею, что не могу уплатить больше”. Он ушел от меня покойный и довольный. Это был случай не единичный; были подобные же, но не такие.
Прошло уже полтора года моей службы при клиниках, пора было подумать и о диссертации. Но о чем писать? Мне, как клиницисту, хотелось бы написать что-нибудь по клинической хирургии. Я знал очень хорошо, что теперь уже вышло на сцену новое учение о безгнилостном лечении ран, и, стало быть, тема из этой области была бы наиболее интересной; но у меня не было материала для этой темы: в клинике господствовал старый, хорошо налаженный метод с корпией, linteum tenrstro, всякие unquentum, ecrutum, emplasta, а по новому методу все это отвергалось. Кроме того, за все три года моей службы в клиниках не было сделано ни одной ампутации <....> и резекции; о последних студенты даже и не слыхали; главным образом было удаление всяких новообразований и лечение язв, переломов, вывихов и т.п. Выбор оставался небольшой. Я обратился за советом к В. А. Басову, думая, что он как опытный человек скорее моего многодуманья, укажет ту область, из которой можно было выбрать и самую тему. Решено - сделано. На следующий же день обращаюсь к нему и что же слышу от него? Он выслушал меня, видимо, очень внимательно, потом повернулся ко мне боком, начал смотреть в окно, сдвинувши очки на кончик носа и спрашивает меня: “А Вы, Иван Ильич весной бывали в лугах?” “Бывал”, говорю я. “А видали сколько там разных цветов?” ”Видал.” ” А что пчелки там делают?” ” Видал и это. “ “Они ведь целый день перелетают с цветка на цветок, собирают с них сок, сносят его в улей, выделывают из него мед, а медом-то этим человек пользуется и одобряет. Берите пример с трудолюбивой пчелы. Прощайте-с.” И ушел. Дал совет, научил, но иносказательно. Через несколько дней я остановился на произ-водстве “искусственного пути в желудок”, ввиду того, что эту операцию в последнее время стали намечать, но еще не делали, все боясь, главным образом, ранения брюшины, хотя часто (сравнительно) делали овариотомию, при которой брюшина вскрывается на громадном протяжении и, кроме того, не знаю на каком основании установилось убеждение, что чем выше ранение брюшины, тем оно опаснее, стало быть при операциях на желудке главная опасность - ранение предлежащей брюшины. Я задался целью проверить это мнение и начал собирать литературные данные. Прежде всего, достал протокол Московского физико-медицинского общества за 1845 год. В этом протоколе было приведено сообщение Басова, тоже озаглавленное - об ис-кусственном пути в желудок; в этой статье, немногословной, ясно доказано, что этот путь при нормальных условиях живот-ного довольно прост, несложен и ведет к намеченной цели, т.е. к добыванию во всякое время желудочного сока, в котором так нуждались тогдашние физиологи, изучавшие процесс пищеварения в том числе и сам Басов, бывший тогда прозектором при кафедре физиологии. На основании своих опытов над животными (собаками) он пришел к заключению, что операцию можно было бы производить и у человека в тех случаях, когда естественный путь для пищи сужен или загроможден каким-нибудь препятствием. Он ссылался на случай бывший с канадским охотником, в котором у этого охотника нечаянным выстрелом ранена была селезенка, вскрыт желудок и ранена диафрагма, рана была огромная и все же пострадавший остался жив, и даже выздоровел. На основании всего этого, он предположил делать операцию гастротомии человеку. Но его предположением воспользовались не русские врачи, в то время стоявшие в жалком, убогом положении, а иностранцы, именно <....> - страсбургский профессор Хирургии в 1852 году. Случай окон-чился смертью, и это расхолодило хирурга. Но вслед за ним стали делать эту операцию и другие и все случаи оканчивались смертельно. Но почему же? Что именно было причиной такого исхода. При посредстве книжного магазина Дейбнера (Кузнецовский мост) мне удалось выписать из Парижа старый номер одного французского журнала <....>, что обошлось мне всего 32 коп. серебром, и в этом журнале была помещена статья <....>, в которой он описывал свой случай операции. Затем мало-помалу стала подбираться литература по этому предмету, а наконец, появилась и целая книга, составленная из отдельных статей, редактированная Гейдельбергетским профессором Черни (Crerny) по поводу 25-летнего юбилея Бильрота; в ней была приведена целая серия таких операций и вообще операций на желудке и описание того общего состояния, в каком находились больные в момент оперирования и результаты вскрытий. Книга эта значительно облегчила мой труд по собиранию литературы. Из нее я взял много материала. Все что я собирал тщательно хранилось, и нужно было только самому заняться опытами на животном, что и было проделано на 12 собаках. Хотя они после операции жили в самых дурных условиях и кормивший их служитель наживал деньги от кормления моих пациентов, тем не менее, все они остались живы и здоровы. А при изучении болезни оперированных больных всюду оказывалось одно и то же, а именно - больные были в таком ослабленном состоянии, истощении, что не могли уже говорить, потерявши от слабости голос, а при исследовании их трупов оказывалось, что сращение сшитых краев раны уже произошло, стало быть, нечего бояться, что в полость брюшины может попасть что-нибудь из желудка или извне. Все это вместе взятое дало мне право написать и утверждать, что эту операцию надо производить во время, когда больные еще не вполне истощены голодом. Эта мысль легла в основу диссертации и выставлена в конце книги, как особое положение. К книге я приложил и рисунки особой изобретенной мною капсюли, которую я предложил для введения в желудок и через которую можно бы было кормить больных. Капсюля эта в руководстве по оперативной хирургии Боброва в I-м издании названа была капсюлей Склифосовского, а когда я указал на это П. И. Дьяконову и показал ему свою диссертацию с рисунком капсюли, он убедился, что она моя и сообщил об этом Боброву, который в свою очередь, исправил ошибку и во втором издании своего руководства уже назвал ее капсюлей доктора Курбатова. Но и Склифосовский в свою очередь не остался в долгу. Он заказал в инструментальном магазине Ф. Швабе точно такую же капсюлю, но на полсантиметра шире, чем моя, и не из серебра, как моя, а из вулканизированного каучука и об этом было сделано сообщение в обществе Русских врачей, в котором Иона Сарычев назвал эту трубочку изобретением Склифо-совского. Когда у меня подбор литературы был уже окончен, как-то великим постом Басов отозвал меня в сторону и спросил меня, согласен ли буду я поехать за границу для подготовления к занятию хирургической кафедры. Я конечно сказал, что согласен. Ну, в таком случае, готовьте как можно скорее вашу диссертацию, и после того начал ежедневно спрашивать, пишу ли я, что написал. Он так меня подгонял и подталкивал, что через три недели диссертация была готова и я представил ее в факультет. Рецензентами были назначены Басов, Синицын и Воронцовский. Басов через день возвратил рукопись с хорошим отзывом. Синицин через два дня с таким же отзывом, а Воронцовский продержал месяца полтора. Предвидя такую возможность промедления декан Иван Ф. Клейн испросил заранее разрешение факультета на напечатание диссертации, когда она будет подписана всеми профессорами. Если бы не задержка со стороны Воронцовского, я бы успел и напечатать и защитить ее в последние дни перед каникулами, но этого не случилось и потому печатание шло летом, а защита была назначена лишь в сентябре. И все лишь по милости этого кисляка пунктуалиста Ник. Влад. Воронцовского. Он возвратил рукопись после 30-го мая, когда окончились уже все экзамены и, стало быть, наступили каникулы, почти все профессора выехали на дачи. Это было для меня новое неудобство: нужно было давать деньги рассыльному на поездки по железной дороге и терять время на эти поездки: некоторые профессора жили довольно далеко от Москвы, например Зернов, где-то около Лопасни по Курской дороге; Кожевников даже около Коломны, более чем за 100 верст от Москвы. Но с помощью затрат и это было устранено. Декан сделал надпись - печатать разрешается по постановлению факультета и вручил рукопись мне. Оставалось выбрать типографию и договориться о цене. Я был знаком еще еще со студенческих времен с Е. П. Яковлевым, владельцем скоропечати в Салтыковском переулке и обратился в эту типографию. Там мне обещали подвинуть дело скоро и действительно подвинули настолько, что все потребные экземп-ляры, даже с отпечатанными рисунками и все сброшюрованные через две недели были уже у меня в квартире. Корректором я был сам и нужно сказать, что я был плохой корректор, а в типографии дело шло почти без ошибок; я же до тех пор и не видал, как надо корректировать. Когда потом я подсчитал все расходы, связанные с написанием, а потом и напечатанием диссертации, то оказалось, что они составляли довольно солидную сумму - около 600 рублей. Количество экземпляров в 1/4 завода, т.е. 300. Все они лежали у меня дома в ожидании своей участи, кроме тех, которые нужно было сдать в факультет по закону. Участь диссертации была кажется обозначена. Нужно было ждать начала учебного года, т.е. сентября месяца. Это лето (1879 г.) мы не выезжали ни на дачу, ни в деревню, а прожили в Москве, в очень хорошей квартире, данной мне Тихонравовым, где меня часто навещали Отрадинский, Соколовский и Дружинин; время у меня было свободное и я занялся частной практикой и изучением немецкого языка в виду предполагаемой поездки заграницу. Я взял учительницу. Это была Ю. И. Глики, жена или сестра доктора Глики. Она недолго давала мне уроки и хорошо сделала, что скоро отказалась, потому что я сам не был в состоянии отказать ей, хотя преподавание ее, метод, мне не нравился: мне нужна была разговорная речь, мне нужно было уметь спросить себе обед, узнать цену вещи, а она толковала мне о склонениях, которые я помнил с гимназических времен. Не много лучше шло дело и после нее, когда ее заменил студент Кузнецов, родом из Риги, основательно знавший немецкий язык и, в общем, я остался совершенно незнаком с разговорной немецкой речью и с такими знаниями, все же решился ехать за границу. Я сказал, что в это лето я занялся частной практикой: у меня было ее немало и на дому и вне дома. Через день мне нужно было посещать одну старуху из древних боярынь, Александру Николаевну Чашникову, жившую на Смоленском бульваре. Это была прежняя богатая помещица, у которой, вероятно, невесело жилось ее крепостным; она хотя уже лежала в постели почти постоянно, но все же правила всем домом и всеми дочерьми и мужем, а дочерей у нее было одиннадцать. Пока она жила в деревне в течении 40 лет она ежедневно, как говорил ее муж и сама она, купалась в реке, в двух верстах от усадьбы. Зимой она купалась прямо в проруби, огороженной тростниковой загородкой для защиты от зрителей. Она подъезжала к реке с кучером, сдавала ему дорожную одежду, а сама шла к проруби, раздевалась там, купалась и вновь одевалась, садилась в сани и ехала наскоро домой. И так повторялось ежедневно, несмотря ни на какую погоду. Не ездила она на реку в течении недели лишь тогда, когда у нее рождался ребенок. И вот такую то особу мне пришлось не лечить, а лишь навещать, потому что она вполне неизлечима у нее был разрушившийся рак прямой кишки, захвативший всю промежность и соседние части и перешедший изнутри на брюшную стенку, потом разрушивший и эту последнюю настолько, что образовалось выпадение кишечной петли. А она все жила и спорила, и ругалась. Лечение состояло в том, что слабыми наркотическими сред-ствами я поддерживал у нее постоянный запор, а на разру-шившиеся массы посыпался чистый морфий, что утоляло боли. Ни кокаина, ни кадеина тогда еще не было в употреблении; кроме того, она ежедневно выпивала бутылку красного вина. Когда ей становилось особенно нехорошо, она приставала ко мне с просьбой - разрешить ей холодную ванну. Я не решался на это ввиду слабого пульса, опасаясь как бы она не умерла в ванне, но, ввиду настойчивых ее просьб и прежних привычек к холодной воде, разрешил, сказавши, что сам буду присутствовать при ней, пока она будет сидеть в воде. Это ей и ее мужу, стало быть, понравилось, потому что указывало на мое особенное к ней внимание. Через 5 минут была уже внесена в комнату ванна с водой и в нее начали всыпать лед ведрами; всего всыпали ведра три, а она требовала еще, но тут уже я окончательно воспротивился, говоря, что она там замерзнет. А муж ее Владимир Иванович, бывший тут же, слушал наши препирательства и лишь посмеивался. Ее посадили в ледяную ванну (сама она ведь не могла это сделать) и она начала благодарить меня за этот ледяной подарок. Я думал продержать ее в воде минут 5-6, не тут-то было. Не хочет старуха выходить из воды раньше, как через 1/4 часа. Вытащили ее из воды совершенно темно-красной, бодрой, веселой; в это время пришел их хороший знакомый доктор медицины и магистр Богословия граф Толстой, часто бывавший у них и они засели играть в карты, в преферанс, что служило знаком, что она чувствует себя особенно хорошо. Умерла старуха лишь через полгода после того как я разрешил ей холодную ванну. Умерла она от рожи, начавшейся от прободения стенки живота, через которое выпадала петля кишки, а воспаление брюшины так и не развилось. Владимир Иванович Чашников задушевный старичок ее был тоже особенный человек. Он был когда-то военным, имел золотую шпагу за храбрость и отличался особенной физической силой, проявление которой я видел в следующем случае. Однажды, когда я приехал к ним, они только что перебрались на другую квартиру в деревянный дом, я застал его за тем, что он в своей комнате над письменным столом развешивал на стенке фотографические портреты в рамочках своих многочисленных родных и знакомых; для каждого портрета он втыкал в стену обыкновенный штукатурный гвоздик прямо пальцами, а не вбивал его молотком. Меня это заняло и я спросил его, как это он может обходиться без помощи молотка. Да на что же он нужен? Ведь стена-то деревянная, а гвоздик острый, стало быть, легко втыкается. Возьмите гвоздик, попробуйте. Я взял, попробовал и, конечно, не воткнул, ничего не вышло. У Вас, говорит он, стало быть, силы мало. А я хотите, покажу Вам прием, которому Вы как малосильный, пожалуй и удивитесь. Он взял медный пятак в правую руку и наметил какую-то точку на полу, вогнал этот пятак в дубовую паркетину между слоями дерева так крепко, что я едва вытащил его, а у меня также была сила немалая. Не даром же в клинической конторе говорили про нас с Дружи-ниным, когда мы с ним боролись в часы досуга: “Смотрите: медведи борются! Должно быть, хорошая погода будет!” И такой-то старичок, отец одиннадцати дочерей, был в полном подчинении у своей супруги. Ведь ему стоило дать ей тумака, что бы она замолчала бы на год. А он этого не сделал. Он и Сумароков вели свой род тех предков бояр, род которых не был уничтожен Иоанном Грозным. Они были дальние родственники. Из одиннадцати дочерей у Чашникова девять были до безобразия некрасивы и старообразны, а две: одна замужем за Ладыженским и другая по приказу мамаши за уродом князем Волконским, были красавицы, особенно последняя. Все они прошли, по-видимому, через суровую школу матери, в присут-ствии ее не смели говорить с посторонними. Мамаша была строга и сурова. В это лето у меня, проездом с юга в Петербург, был брат Василий, которого я не видал с того момента, когда он еще кадетом Тамбовского корпуса увозился в Воронеж, в тамошний корпус, вследствие уничтожения или как тогда говорили на официальном языке, упразднения тамбовского. Я бы конечно не узнал его, если бы он не отрекомендовался. Это был уже не первой юности офицер, обросший бородой и баками, вполне солидный. Он провел всю войну с Турцией в строю, но был настолько счастлив, что не был ранен даже легко, хотя участвовал во многих боях, в том числе и при взятии Горного Дубняка и под Плевной. Теперь он направлялся в Главный штаб, чтобы оттуда получить назначение на Крайний Восток или в Хабаровск, или еще какое-то место, куда Правительство вызывало желающих, на льготных условиях, с сокращением срока службы. Потом, когда я был в Петербурге, я узнал от брата Алексея, что Василий добился своего, женился в Питере и уехал с молодой женой на Восток, кажется в Хабаровск. В Москве он пробыл очень короткий срок, кажется от поезда до поезда, и с тех пор я с ним не видался. Вообще, наши взаимные отношения были какие-то странные, даже не знаю почему. Мать потом говорила мне, что он будто бы остался почему-то недоволен мной, но почему - она отмалчивалась. Там, в Хабаровске он и умер, как писала в Тамбов его дочь, от рака желудка, вызванного, будто бы, неумеренным употреблением спиртных напитков. Скоро потом умерла и жена его. Что стало с его дочерью - не знаю. Как я говорил выше, это лето мы прожили в Москве, иногда бывали в Петровском парке, Сокольниках и еще где-то, бывали и у знакомых, например Отрадинских (в семье), бывали и они у нас. Летом же родилась у нас Катя. В часы можно было ходить в клинический сад, который был расположен позади главного клинического здания на том месте, где теперь стоит роскошное здание Конторы Государ-ственного банка; тогда этот сад отделялся от Неглинной улицы высоким каменным забором. По другую сторону, т.е. по Неглинной с утра до вечера прогуливались нарумяненные и набеленные дамы самого низшего разбора. В саду не было крупных деревьев и вообще мало растительности, и об улуч-шении его никто не заботился, да и пользовался им мало кто. Это было скорее пустое место, чем сад. Но и здесь дышалось как-то свободнее и легче, чем в душной квартире. Иногда здесь бегали ребятишки Дмитриева и ординатора Сыромятникова, один из которых стал впоследствии известным писателем по русской истории, а тогда был просто сопливый мальчонок. Кроме всего, того что я сказал про это лето, не произошло ничего достойного записания в рукопись воспоминаний. Но вот наступил и сентябрь месяц, и декан И.Ф. Клейн заявил мне, что факультет назначил на 26 сентября защиту моей диссертации в операционном зале Хирургической клиники. Хотя я и знал, что именно этим должно окончиться мое искание степени доктора, но все же это известие как-то смутило меня, как неожиданность. Ведь каждый оппонент норовит в своем возражении непременно подставить ножку автору и сделать ему какую-либо каверзу и тем как бы возвысить себя в глазах публики. Особенно любят проделать это молодые, стрики профессора так наоборот, всегда возражают по существу и всегда очень коротко, а иногда они прямо говорят, что они, как официальные оппоненты должны делать возражения, хотя во всем согласны с автором, а потому возражения их будут несущественны. Этим они значительно ободряют будущего доктора и содействуют спокойствию его духа, что особенно важно при диспуте. Ну вот и наступило 26 сентября. Днем была лекция, после которой Басов по обыкновению уехал; операции в этот день не было. Защита назначена была в 2 часа и масса студентов осталась к Клинике; некоторые из них забегали ко мне на квартиру, чтобы получить несколько экземпляров диссертации себе и товарищам. Я раздавал их охотно: ведь не торговать же мне было книгой. К двум часам стала собираться публика из врачебного мира и все сходились в конторе; тут я впервые познакомился со многими. Ровно в два часа приехал Басов; он исполнял должность декана за отсутствием Клейна. Я облачился первый раз в только что сделанный фрак и белый галстук и ждал своей участи с терпением. Басов поговорил в конторе с тем и другим, подошел ко мне, взял меня под руку и повел в большую аудиторию, на лестнице и ее площадках была масса студентов и сторонней публики; все места в аудитории были заняты, некоторые стояли даже в проходах, но все же дали возможность нашей процессии пройти на кафедру. Басов прочитал громким голосом мой краткий curriculum vitae и предложил мне занять его место. Признаюсь, я со смущением исполнил это предложение, тем более, что ведь это было первый раз в жизни и при таком многочисленном собрании, все глаза которого были направлены на меня: я это видел. Я сказал краткое вступительное слово, в котором отдал должную честь изобретателю искусственного пути в желудок В. А. Басову, нашему маститому хирургу, пожалел, что до сих пор эта операция так мало производилась вообще всюду, хотя показания ее представлялись нередко, что виной этого была боязнь вскрытия брюшины, что я путем опытов на животных и подбором литературных данных убедился, что это опасение совершенно неосновательно, и что с введением в хирургическую практику безгнилостного способа лечения ран и опрятного оперирования по указаниям Листера, эта операция будет все чаще и чаще производиться. Закончил я словами “Feci quod potui, faciat meliora potentes”. И поклонился в сторону факультета. Первым оппонентом, как младший, был Воронцовский. Он говорил, что я не сам лично сделал анатомическое исследование брюшных стенок, что я описал его строение из руководства по анатомии и что я сделал какую-то ошибку в названии сухожильного растяжения, я отвечал ему, что если ставить в укор мне, что я заимствовал описание брюшной стенки из руководства по анатомии, тогда всякое упоминание об анатомии какой-либо части организма должно ставиться в вину человеку, как списывание, потому что ведь ни одной точки в организме, ни одной области, которая не была бы описана в специальных руководствах по анатомии, что каждый из нас берет из руководства многое на веру, и что я считаю это возражение его не существенным. Другие два возражения были такого же свойства, не по существу дела. Более он не возражал и кончил. Вторым оппонентом был Синицын, он по обыкновению вылезал из кожи, делал очень большие глаза, отчаянно мямлил и говорил, говорил долго, до того долго, что утомил не только меня, внимательно слушавшего его, но и всю присутствовавшую публику. Это было заметно уже потому, что многие, хотя и закрывали рот рукой, но заметно было, что позевывали. Сущность его речи совершенно не помню. Последним говорил Басов, как старший по службе. Он был довольно краток. Он сказал, что во всех случаях, которые я привел в своей таблице после операции больные скоро умирали, стало быть, операция смертоносная. Я отвечал: да больные умирали, но нужно смотреть и ту графу в таблице, а которой отмечено, что они в момент операции и перед ней находились в таком состоянии слабости от голода и истощения, что потеряли уже голос, что если бы им нужно было вместо этой операции сделать катетеризацию, после которой они неизбежно умерли бы (от голода), то неужели введение катетра можно было бы считать смертельным? Прочие возражения были такого же свойства, по особому заказу, не существенные. Затем было еще двое оппонентов из публики, один очень ретивый студентик, видимо поклонник Снегирева, указавший не помню уже на что-то несогласное с лекциями Снегирева, на которые он ссылался. Я ему ответил, что ссылка эта ненадежна, ибо литографированный листок составлялся вероятно не совсем опытной рукой. Другой - молодой врач из поляков не возражал, а только заметил, что я напрасно написал, что операцию предложил Басов, что все это и без того хорошо знают. Затем декан собрал голоса присутствующих членов фа-культета, против защиты никто не был и декан объявил, что факультет признает меня достойным искомой мной степени доктора медицинских наук, поздравил и поцеловал. Пошли поздравления и остальных; в это время раздались громкие аплодисменты, а кто-то из студентов поляков или жидков, с которыми я вообще не ладил - свистнул, но не громко, за что получил порицание сотоварищей. Осталось лишь подписать факультетское обещание, что и было исполнено в конторе. Затем домой, переоделся и обедать с приятелями в Эрмитаже, тем более, что было уже темно, более шести часов. Диспут окончился при огне. Наступил октябрь месяц, баллотировка моя в Совете про-шла удовлетворительно, срок службы в клинике окончился, и мне нужно было выезжать из казенной квартиры на свою. Но какая же может быть найдена в это время квартира? Конечно, лишь такая, какую никто не брал, забракованная. Долго пришлось искать ее. У Зверевой, где я раньше жил, моя квартира была сдана на три года уже по 1250 рублей в год, вместо 750, которые я платил. Едва-едва нашлась квартиренка на Никитском бульваре в д.Прибылова, всего в четыре маленьких комнатки и притом очень холодные, натопить их не было возможности; дом был очень старый и предназначался весной на сломку. Мы взяли квартиру помесячно, по 50 рублей в месяц. Здесь мы прожили до конца декабря, рассовали свои вещи куда попало, главным образом к Дружинину, который уже поселился в Клиниках, к нему попал и ящик с книгами, впоследствии исчезнувший. В последних числах декабря мы приехали в Путятино с тремя ребятами и собачонкой Мишкой, а 31 декабря я получил от Дружинина телеграмму с извещением о смерти Басова и 1-го января 1880 года был уже снова в Москве и участвовал в погребальной процессии. Но прежде чем выехать из Москвы, я побывал в Петербурге, куда ездил вот по какому случаю. Как-то в конце ноября Басов говорит мне: “Вам бы Иван Ильич побывать в Петербурге, в Министерстве народного просвещения и лично там похлопотать о том, чтобы подвинуть Вашу заграничную командировку поскорее, а то ведь может случиться то, что вышло с А. А. Остроумовым, который тоже был избран Советом для поездки на казенный счет, а потом Министерство решило записать ему в формуляр, что он ездил на свой счет заграницу и эту поездку считать ему за командировку, т.е. за службу. Там Вы похлопочите сами. Я сказал об этом Дмитрию Владимировичу Соколовскому, а тот своему дяде профессору. Этот сообразил, что туда ехать без всякой рекомендации невозможно. А к кому обратиться? Конечно к человеку, у которого там есть рука. И вот он, после беседы со мной по этому поводу остановился на Гивартовском, у которого был в Питере приятель Гезен, член Совета Министра Народного просвещения и вместе с тем спичечный фабрикант (Гезен, Митушенко и К). Гивартовский охотно согласился дать мне письмо к Гезену и уверял в успехе дела, что и подтвердилось потом. В последних числах ноября я получил письмо от Гивартовского, а 2-го декабря был уже в Петербурге. Едучи туда, я не знал с какого конца мне начать свои хлопоты, у меня в кармане было письмо к Гезену, и я сильно надеялся на него, тем более что Гивартовский, вручая его мне сказал, что дело будет сделано. Но дорогой я вспомнил, что у меня есть там знакомый, которого я лечил в Москве, и который постоянно зимой живет в Петербурге, а летом в деревне. Это был там-бовский конный заводчик, который выращивал рабочих хороших лошадей и привозил их на продажу в Москву и в Петербург. Жил он в Знаменской гостинице, был очень скуп и имел большое знакомство в обоих столицах; в Москве у него жил даже брат. Его фамилия была Балашев. Остановился я в гостинице Дагенары против московского вокзала, привел себя в порядок и отправился к Балашеву; застал его дома. В разговоре он спросил о причине, заставившей меня приехать сюда. Я ему, конечно, рассказал все, не утаил и о письме к Гезену. “Это, - говорит, - конечно хорошо, что к такому чину есть письмо, но ввиду того, что скоро будут праздники, дело много зависит от мелких сошек, от секретаря Департамента. Завтра утром Вы получите от меня все необходимые сведения по этому делу, а сегодня идите с письмом к Гезену.” Я отправился, застал его вечером дома, перед уходом его в театр с дочерями и отдал ему письмо. Это был старец почтенных лет, весьма чисто выбритый; он провел меня в свой кабинет, спросил, что мне нужно от него, а я вместо ответа подал ему письмо. “От кого это? - спрашивает он. “От Генр. Ал. Гивар-товского”. “А Вы вероятно знаете содержание письма?” “ Отчас-ти знаю”. “В таком случае, прочитайте мне его громко, а то я плохо вижу”. Я распечатал и прочитал вслух письмо, в котором он просит оказать мне всякое содействие и двинуть дело поскорее. Из письма я узнал, что Гезен и Гивартовский были приятели, на ты. “Хорошо, - говорит он, - завтра же я буду в Министерстве Народного просвещения и увижу директора Департамента, поговорю с ним”. На утро явился ко мне Балашев и сказал, что секретарь Белевцев иногда берет взятки и если желает взять, то складывает пальцы обеих рук так, что пальцы одной руки помещаются между пальцами другой, а если взять не желает, то складывает ладони друг с другом. “К нему и идите и возьмите с собой что-нибудь, чтобы дать ему”. Я отправился к секретарю в 10 часов утра и застал его уже на своем месте, в особом кабинете; перед ним лежала груда бумаг и он читал еще какую-то бумагу. Я обратился к нему, отрекомендовался и объяснил цель своего приезда. Он сказал, что из Москвы от попечителя Учебного округа получено недавно ходатайство о моей командировке за границу за счет казны, и вытащил с самого низа груды бумаг ту, которую он назвал ходатайством обо мне; прочитал ее еще раз и сказал, что такое ходатайство очень лестно для меня и положил перед собой. “В чем же теперь дело?” - спрашиваю я. “А дело теперь в докладе директору Департамента, а затем Министру”. “Так сделайте одолжение - доложите директору”. “Нет, говорит он, доложите Вы сами”. “А как же я могу докладывать?” “ А так как и все или многие это делают” - и сам сложил руки так, как мне говорили, что это он делает знак, что желает получить. Я ему ответил, что я уверен, что дело пойдет своим чередом, но все же желательно было бы мне для спокойствия получить от него телеграмму о ходе дела. Он спросил мой Московский адрес и сказал, что в день утверждения командировки он даст мне телеграмму, а я вынул из кармана бывшие у меня 15 рублей и положил их на ту бумагу, которую он назвал лестным обо мне ходатайством Попечителя. Я сказал ему, что эти деньги на телеграмму, что я благодарен ему за готовность уведомить директора Департамента Брадке и за готовность послать телеграмму, но не желаю вводить его самого в убытки. Он взял деньги, наклонил голову и положил их в карман. Мы раскланялись. Выходя от секретаря я увидел Гезена, проследил куда он идет; оказалось, что он шел к директору Департамента. Ну, стало быть, мое дело поплыло своим чередом и словесно и письменно. Надо ждать решение Министра Народного Просвещения графа Дм. Андр. Толстого. Посещение мое в Департамент было 4-го декабря; следующий день я побывал у брата Алексея, 6-го декабря праздник, тоже не поехал домой, а приехал лишь 8-го декабря и застал уже дома телеграмму о том, что Министр утвердил мою командировку с 1-го декабря на полтора года за счет казны; по 1500 рублей в год. Так счастливо окончилось это дело, и я был вполне удовлетворен. Когда я сообщил Басову об этом деле, конечно, умалчивая о 15 рублях, он улыбнулся и заметил только, что если бы я сам не поехал туда, так не было бы и такого результата. Он, вероятно, догадался, что я дал малую толику секретарю, но не знал, что у меня было письмо Гивартовского. |
||
на главную страницу to the head page