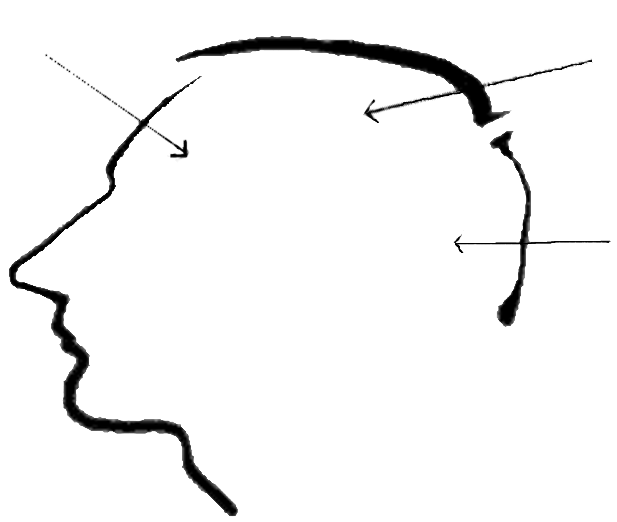 Главная страница
- Леонид Кипарисов. Живопись,
проекты.
Head Page - Leonid
Kiparissov. Painting.
Главная страница
- Леонид Кипарисов. Живопись,
проекты.
Head Page - Leonid
Kiparissov. Painting. |
 "Воспоминания Ивана Ильича
Курбатова доктора медицины 1846-1923"
"Воспоминания Ивана Ильича
Курбатова доктора медицины 1846-1923" |
||
 |
Глава 6. Возвращение в Москву. Путятино. Павловская больница. Практическая Академия Коммерческих Наук. 1881-1906 Знакомство с Практической Академией и семейством Живаго |
 |
|
1-го июня 1881 года я возвратился в Москву и, должен сказать, что въехал в нее с радостным чувством. Я остановился на Тверской улице в гостинице “Франция” и, оправившись от дороги, пошел к своему приятелю П.П. Отрадинскому, жившему против почтамта и, не заставши дома его, узнал там, что он отправился к Антонине Николаевне, остановившейся в довольно паршивых номерах против Двор.собрания на Дмитровке; пошел туда и застал ее дома: она накануне приехала в Москву встретить меня с Ниной (с Рябкой)*, оттуда я перевез ее к себе во “Францию”. Здесь я оставался несколько дней, пока был получен из таможни мой багаж, сданный прямо в Москву еще в Париже. Назавтра после моего прибытия явился ко мне какой-то господин и сказал, что мой багаж из Франции уже прибыл, и я могу получить его. Это был комиссионер или агент того же общества, которое приняло у меня вещи в Париже. Назавтра мы вместе с этим господином были уже в Главной таможне. Мой сундук, купленный в Берлине, был уже доставлен для досмотра; я отдал чиновнику ключ от него, говоря, что у меня нет ничего там такого, что подлежало бы оплате таможенной пошлиной; но едва вскрыли сундук, как чиновник воскликнул: “А вот подушка пуховая! И она подлежит оплате”. Как я не уверял его, что это моя старая подушка, что она московского происхождения, и что я пользуюсь ею уже около десяти лет - ничто не помогало. Ее взяли, положили на весы и объявили, что я должен уплатить за нее один серебряный рубль. Агент общества тотчас же уплатил рубль и я мог свободно пользоваться своим багажом; на сундук наклеили ярлык с надписью “досмотрено” и вручили служителю, чтобы он вынес его на подъезд таможни, а ящик с книгами решили отправить в цензурный комитет для просмотра книг. Этот ящик через Отрадинского я получил уже впоследствии, так как скоро уехал из Москвы в Путятино. В эти немногие дни пребывания в Москве, поразнюхавши о своих надеждах на получение хирургической кафедры в университете, я убедился в том, что этим надеждам не суждено осуществиться: все полно, даже через край полно, и над каждой, могущей образоваться дыркой, стоят по нескольку человек, чтобы тоже плотно закупорить ее. На главное место засел Н.К.Склифосовский, а с ним прибыли В.М.Кузьмин, Янковский и Дуброво. Янковский, конечно, не представлял никакого препятствия, как не имевший еще степени доктора, но Кузьмин и Дуброво были очень серьезные противники, тем более, что за ними стоял сам г.Склифосовский, так как они были его креатурами, приехали вместе с ним и были уже действительными членами Московского хирургического общества, стало быть, записавшие в нем каждый по два сообщения и тем самым рекламировавшие свои имена. Все тут шло на то, чтобы приобрести популярность, заставить говорить о себе и тем самым оставить прежних хирургов в тени. Стена создалась довольно крепкая, и пробить ее мне было не под силу. Но я все же решился сделать визит Склифосовскому. Он занимал роскошную квартиру, дом-особняк близ Каретного ряда. Квартира была обставлена на какой-то особый манер, не то аристократическая, не то еще какая-то, но во всяком случае такая, к каким я не привык. Сам владелец квартиры лежал на софе, читая какой-то иностранный журнал, вероятно последний номер его, чтобы знать самую последнюю новость. На столе лежала груда газет и русских, и не русских, даже иллюстрированных, а по дороге в кабинет, в небольшой комнате, через которую необходимо было проходить, висело объявление, напечатанное крупными вывесочными буквами, гласившее, что за совет у профессора уплачивается 300 рублей, а если он, совет, соединен с исследованием инструментами - 400 рублей. Не видеть и не прочитать это объявление было невозможно: оно повешено было так, что непременно бросалось в глаза, и, чтобы не читать его, нужно было отвернуться в сторону. Вот он новое веяние, вот зачем рвались господа ученые из Петербурга, уверяя, что они люди мысли, идеи, а не хищники, подобно Захарьину. Но, по моему, Захарьин сравнительно с ними младенец, а эти уже опытные бойцы, явившиеся в Москву с большим запасом пыли, которую они щедрой рукой готовы пускать в глаза всем. Из разговора со Склифосовским, весьма политичного и дипломатичного, я увидал, что мои надежды на кафедру совсем рухнули, и нет надежды на восстановление их; между разговорами он спросил, где я остановился, и записал мой адрес, я не знал для чего это, а на завтра - он сделал мне визит, не застал дома и оставил свою карточку. Пошатавшись по больницам и повидавшись с некоторыми знакомыми, я уехал в Путятино, чтобы дождаться осени и тогда начать усиленные хлопоты о поступлении на службу в какую-нибудь больницу, когда народ съедется с дач в Москву, и при посредстве знакомых легче будет вести дела. Так и сделал. В Путятине моя семья жила в это время в доме Стурм, а больницей заведовал мой свояк Николай Петрович Кипарисов, который раньше, одновременно со мной (т.е.службой в Сапожковском земстве) служил в Сараевском участке, но соблазнился моим примером и переехал в Москву, держал экзамен, но потом бросил эту затею, не доведя ее до конца. Так как у меня все равно было свободное время, так я ходил в больницу и делал там операции, до которых Кипарисов был не охотник. Ввиду полного успеха оперирования, вести обо мне распространились довольно скоро, и начали приезжать многие даже не из нашего уезда, особенно с глазными болезнями. Это последнее вызвано было тем, что мне удалось с помощью операции (iridectomia) восстановить зрение у одной девицы, едва различавшей свет от тьмы, но ничего не видевшей. Из больницы, куда она была приведена, она пошла одна, чем удивила многих. Слава обо мне, как об окулисте, каким я никогда не был, доросла до того, что даже после моего отъезда из Путятина, приезжали к нам глазные больные, прося Антонину Николаевну помочь им, спрашивая ее: “Неужто она не наметалась этому делу вокруг мужа”. Прожил я в Путятине в ожидании будущих благ до конца августа и уехал в Москву. По первому разу я остановился жить у Отрадинского, а потом перебрался в гостиницу “Швейца-рия” на Мясницкой против почтамта. Здесь однажды уже в октябре взял я газету, начал рассматривать объявления и прочел, что на завтра назначено заседание Физико-Медицинского общества и будут сделаны там такие-то доклады. Заинтересовавшись ими, я отправился в заседание и встретился там со знакомым доктором Репманом, с которым познакомился в окружном суде, будучи очередным присяжным заседателем. Встретились, разговорились и он сообщил мне, что в больнице, где он служит, т.е. Павловской, скоро освободится место хирурга, советовал похлопотать о нем и обещал свое содействие, а вместе с тем пообещался назавтра же узнать все это дело точно, официально, что и исполнил. Дня через два я ехал уже в больницу с прошением в кармане. Но место, на которое я мог поступить, было место сверхштатного ординатора (Кондакова), которому давалась квартира только потому, что Репман, которому она принадлежала, не жил в ней, а место хирурга было еще занято и могло освободиться лишь в декабре. Но мне нужна была главным образом казенная квартира с отоплением и я схватился и за это место ввиду обещания Главного доктора представить меня на место старшего ординатора, т.е. хирурга, который уже сделал заявление о том, что он выходит в отставку. Квартира состояла из 5 комнат в первом этаже, но ее нужно было еще отделать. Главный доктор Александр Густавович Левенталь, уже немолодой человек, но желавший молодиться, принял меня, что называется, благосклонно, прочитал прошение и указал в нем на ошибку, состоявшую в том, что я назвал больницу Петропавловской, а она была императорская Павловская, стало быть, нужно было переписать все прошение, что было тут же исполнено. Он обещал дело не замедлять и представить обо мне ходатайство Почетному опекуну, управляющему больницей барону Бюллеру и медицинскому инспектору Коху. Мне не терпелось, хотелось получить казенную квартиру и я обратился за содействием к тому же Гивартовскому, который был полезен мне при получении командировки за границу. Гивартовский дал мне письмо к Бюллеру, прося его за меня, а вместе с тем я побывал и у Коха, который дал слово не задерживать моего утверждения. Итак моя служба (судьба?) стояла в руках трех немцев: Левенталя, Бюллера и Коха и 4-го голландца Репмана, который уже окончил свою роль. Бюллер, надутый тайный советник, жил в архиве Минестерства иностранных дел на Моховой улице, принял меня надменно и сказал, что все зависит от Главного доктора, которому он передаст и письмо Гивартовского. Далее мне следовало побывать снова у Левенталя и узнать, в каком положении мое дело. Он сказал, что при первом же приезде Бюллера, что состоится на днях, он сделает представление обо мне на должность сверхштатного ординатора и, что я буду утвержден, письмо Гивартовского ему уже передано, а теперь мне нужно повидаться со смотрителем больницы Лисагоровским и попросить его ремонтировать поскорее мою будущую квартиру. Я всегда был против разных смотрителей, но тем не менее пошел и к этому, благо на том же больничном дворе, и сообщил ему слова Левенталя. Эта старая крыса был такая мямля, что противно было даже говорить с ним. Он сказал, что в квартире выбелят потолки, немного покрасят полы и сменят обои, которые я могу выбрать сам в таком-то магазине и сказать там, что это назначается для Павловской больницы. Дня через три я был снова там и увидал, что потолки уже выбелены, но плохо, обои привезены, но не распакованы, что полы в прежнем состоянии. Чтобы побудить рабочих делать дело поскорее, я дал им два рубля и тем испортил дело: нужно было дать 50 коп., а то на мои деньги они перепились и два дня не работали. Наконец представление сделано, утверждено, квартира готова, и я могу переехать в нее. Обо всем этом я написал в Путятино, зовя своих переезжать в Москву, и только лишь 19-го декабря 1881г. мы въехали в казенную квартиру всей семьей. Назавтра утром я отправился на службу первый раз. Нужно было входить с парадного подъезда в довольно большую светлую швейцарскую, где направо была дверь в приемную, а прямо - в середину коридора против церкви, коридор шел вдоль всего здания; из швейцарской же направо и налево поднимались лестницы, ведущие в верхний этаж, в женское отделение. Все это здание было выстроено каким-то архитектором-итальянцем в 1819 году на том самом месте, где стояла прежняя деревянная больница, сгоревшая в 1812, году построенная Павлом I. Все это здание довольно массивное, красивое, палаты в обоих этажах со сводами, в центре которых достигают высоты до 12 аршин, а в верхнем до 6-и. Подоконники настолько широки, что на них свободно может улечься самый брыкучий человек. С внешней стороны было все чисто; в некоторых палатах были устроены даже камины, вероятно для очистки воздуха. Но, вместе с тем, в каждой палате были и шкафы, из которых в одном лежало запасное белье, а в другом склад всевозможной дряни и банки с какими-то мазями, уже совершенно прогнившими, покрытыми плесенью; лежали тут и отдельные кости скелета человека, не знаю для какой надобности. Фельдшера ходили в сюртуках до такой степени засаленных, что блестели как мутные зеркала. Перевязка больных производилась в палатах, и для наложения повязки фельдшера вынимали корпию из карманов; бинты были только полотняные; для оперирования надевались фартуки с рукавами не для защиты больного от заражения, а себя от запачкивания кровью или чем-либо. Операционная была в то же время и комната для дежурного врача, и во время производства операции здесь сходились все врачи, свободно говорили, курили, а некоторые молодые даже пели, спорили, а надзирательница за чистотой и сиделками А.И. Очкина (модная, затянутая в корсет, уже немолодая девица) здесь же снимала свою верхнюю одежду и оставляла ее на столе, за которым пили потом чай ординаторы; здесь же она оставляла и калоши. Все это считалось в порядке вещей и никому и в голову не приходило изменить этот порядок. В первых же числах января мне предложено было расписаться в получении разного материала по счету: это были свертки полотняных бинтов, пучки гусиных перьев для письма, громадный лубок, аршин в 5-6 длиной и около 1 1/2 аршин шириной, назначенный для наложения повязок при переломах, перочинный ножик и еще какие-то вещи, которые с давних пор выписывались ежегодно для расходования в течение наступившего года. Особенно интересно то, что все эти вещи доставлялись одинаково в каждое отделение в том числе и лубок в тифозное, но куда он мог идти там - неизвестно, и почему выписывались гусиные перья, когда были уже в полном употреблении стальные? Разве только для писания разведенным мелом на досках над кроватями больных; но для этого не нужно было такое количество. А если выписывались перочинные ножи, то куда же девались старые, неужели они становились совсем негодными ровно через год, хотя держались в кармане у фельдшера? Все это было когда-то заведено и по традиции неукоснительно соблюдалось. О том же, чтобы было мыло хотя бы для мытья рук служащих - об этом не было и разговора, а если оно требовалось особенно настойчиво, то в контору посылалось особое требование, которое писалось так: потребно доставить в такое-то отделение четверть фунта мыла (или еще что-нибудь) для такой-то цели. Требование это заносилось в расходную ведомость, утверждалось главным доктором, давался ордер на выполнение, и при доставлении его требовалась расписка в получении. Так шло дело по поводу каждой малости. Доставить мыло в большем количестве считалось рискованным, пожалуй украдут, нельзя доверять. Пища больных была не особенно хороша, чтобы не сказать еще что-нибудь. Кухней заведовал под начальством смотрителя особый умудренный годами старичок (Вадиков), именовавшийся тафельдекер, который получал жалованья всего пять рублей и квартиру, но живя с семьей, находил возможным держать кухарку и содержать лошадь и при ней кучера, платя ему жалованье восемь рублей. Дочь его служила в кордебалете Большого театра и считалась одной из лучших танцовщиц, а сын был уже земским врачом в Саратовской губернии. У этого старца, по должности считавшегося низшим служащим, были на шее медали, и огромная серебряная, и золотая величиной в серебряный рубль, и другая золотая еще большей величины, представлявшие сами по себе большую ценность. Хотя по уставу больницы беременные женщины и не принимались в больницу для разрешения, но в числе служащих состояла акушерка, тоже престарелая особа, для которой не было никакого дела, но она все же каждый день приходила в женское отделение на службу. Старшие врачи были люди престарелые, один из них, на место которого должен был поступить я, дослуживал свои 25 лет, был зажиточный человек, пользовался в этой местности большой практикой и имел на Валовой улице свой довольно хороший дом-особняк. Его фамилия была Ник. Павл. Лебедев. Писал он истории болезни всегда по латыни, но таким языком, который истинному знатоку языка наверное показался бы диким. Человек он был необузданный, из духовного звания, т.е. из старых семинаристов, ворчливый, невоздержанный на ругательства и площадные слова. Другой старший ординатор Ник. Петр. Рещиков, почти такого же возраста, тоже практикант той местности, слыл даже за человека богатого, да и действительно был таким, имел свой дом на Рождественке, в котором было много квартир, и в одной из них штаб-квартира местных воров, о чем искажу в другом месте; у него была единственная дочь, какое-то бесцветное существо, залюбленное родителями. Оба эти ординатора менее всего интересовались больницей и больными, никогда ничего не читали из своей науки и имели самые смутные представления о том, что за штука такая дезинфекция, но зато отлично знали достоинство тысячи рублей и истинную цену ей. Младший ординатор Ал. Хр. Репман, который указал мне на Павловскую больницу, был тоже не молод, не жил в казенной квартире, имел свою лечебницу, где и жил на углу Моховой улицы, хотя заведовал сифилитическим отделением, но с сифилисом был мало знаком, а занимался почти исключительно физикой, преподавателем которой был в пансионе своего брата. Он был человек образованный, знал кажется языки, любил вращаться в обществе высшем, заведовал каким-то отделением в политехническом музее и потому уже значительно отличался от своих сотоварищей по больнице. Он никогда не дежурил в больнице, а его всегда заменял один из сверхштатных врачей, получавший от него в виде платы за дежурство квартиру (Живописцев). Другой младший ординатор, профессор формации и фармакологии в университете, Вл. Андр. Тихомиров, человек средних лет, служивший здесь кажется потому, что кроме ничтожного жалования, он получал и квартиру, и был дружен со всей семьей Левенталя настолько, что проводил времени больше у него, чем у себя дома. Он был знаток тогдашней бактериологии и читал для желающих лекции по микологии. Он написал исследование о развитии спорыньи и развитии и размножении трихнины. Ему несколько раз пришлось демонстрировать рождение молодых трихнин и тем доказать, что трихнина животное живородящее. Он был хороший ботаник и, вместе с тем, по окончании курса в университете был мировым судьей где-то на юге России, а до занятия кафедры формации служил и в Павловской больнице и в больнице Св. Владимира (детской) на противоположном конце Москвы, где бывал ежедневно и служил там несколько лет. Практика у него была небольшая, но все же была. Читал он массу книг, знал, конечно, языки, свободно говорил по-французски и по-немецки, а потом изучал и английский язык. Он был высокой степени образованный человек, очень добрый, и отзывчивый на все доброе, всегда готовый сделать что-нибудь приятное и полезное ближнему. И у такого-то человека была необычайная склонность, почти даже страсть к титулам, орденам, разным знакам отличия и всяким формам. Когда он был уже около 60 лет, ему дали звезду, и он снялся с ней на сюртуке, сидящим верхом на лошади в Манеже, где он часто бывал. Этот большой фотографический портрет висел у него на стене, и каждый, бывший у него в квартире, непременно должен был его видеть. Сверхштатных врачей было тоже четверо; они пользовались правами службы для получения чинов и орденов, но не получали жалованья, а должны были нести обязанности службы наравне со штатными. Между ними особенно выдавался своей безалаберностью С.Н. Ковалев, пьяница, в полном смысле слова балбес, негодный даже на то, чтобы быть фельдшером, ничего или почти ничего не знавший в своем деле, оставивший семью свою без всякого образования. Он нес свою службу как тяжкое бремя и потом уехал в Малоярославский уезд. Воображаю, как он там накуролесил. Другой сверхштатный, Н.С. Розанов, знал свое дело, был скромный человек, из духовных Владимирской губернии, жил все время постоянным врачом у богатого человека - купца Третьякова, фабриканта и цветовода, известного в Москве благотворителя, страшно боявшегося огня и всяких пожаров, и имевшего на службе у себя в квартире постоянно двух врачей, а в случае заболевания чем-либо обращавшегося за помощью к профессору Захарьину. Этот Розанов успел скопить, как одинокий человек, небольшую сумму денег, был застрахован в Американском общ.страхования жизни, внезапно умер, и общество выдало за него 5000 рублей, которые целиком пошли на учреждение стипендии его имени для бедняков медицинского факультета. На эту стипендию воспиталось уже несколько человек врачей, между ними и мой племянник Егор Иванович Поникаровский. Кроме последних четырех лиц, т.е. сверхштатных ординаторов, были еще врачи-экстерны, которые занимались в палатах, несли все службы, но не пользовались от нее ничем. Это были как бы парии, обучавшиеся в больнице, чтобы впоследствии стать сверхштатными и т.д. врачами, а теперь ничто: даже подпись их в рецептурной книге удостоверялась штатным ординатором, а без этой подписи аптекарь не смел отпустить лекарство. Остальные служащие были все старцы, глубокие старцы, доживавшие свой век в теплом углу, около пирога или самовара и рюмочки хорошего винца, а когда-то раньше были деятельные порядочные люди, но волей судеб попавшие в такую обстановку, из которой трудно выбиться, опустились и интересовались только своим брюхом. Священник был тоже старый, вдовый, прослуживший 25 лет; архитектор тоже старый, а почетными опекунами могли быть не иначе, как тайные советники. Сперва был барон Бюллер, а потом Помпей Николаевич Батюшков, очень желавший сделаться товарищем Министра народного просвещения. Все дело шло под надзором и управлением Главного док-тора, почетный опекун был только для декорации. Раньше он назывался директором больницы, а еще раньше деспотом больницы и был действительно деспотом, потому что мог без-апелляционно действовать в больнице, всем и всеми распоря-жаться как хотел. Усадьба больницы была очень большая и лишь часть ее занималась собственно больничными зданиями, дворами и садами, а большая сдавалась в долгосрочную аренду под огороды, доходившие до Москвы-реки. Эта аренда давала хорошую плату на содержание больных, а казна приплачивала очень мало. Во время моего поступления в больницу, на содержание больного отпускалось всего 17 1/2 коп. в день - это на пищу, на чай и на лекарства. Да кроме того, из той же аптеки мог получать медикаменты каждый служащий для себя, членов своего семейства, стало быть, больным доставалось еще меньше. Больница была бесплатная для всех сословий. Она стояла на южной окраине Москвы близ Камер-Калежского вала, близ Серпуховской заставы; ближайшими соседями ее были монахи Данилова монастыря, от которого была даже своя койка в больнице. Между двумя садами (передним и задним, липовым) был очень большой двор, на котором стояли здания с квартирами служащих, а среди двора невысокая каменная круглая башня с тротуаром вокруг. Назначение ее состояло в хранении в ней денег, принадлежавших всем учреждениям Ведомства императрицы Марии в Москве, когда деньги были лишь в виде монеты звонкой, а теперь в ней хранилось до поры до времени всякое старье, в том числе и имущество умерших в больнице больных впредь до аукционной его продажи, что делалось по временам. По обе стороны главного здания находились большие поляны более чем в десятину каждая; одна из них лишь отчасти занималась складом дров, а на остальном протяжении ее паслись коровы служащих, а потом и моя, а другая поляна оберегалась для кошения сена на ней. Сена этого собиралось довольно много для казенной лошади, его косили дворники даром, но оно показывалось купленным у поставщика, что составляло как бы “безгрешный доход” смотрителю. За этим двором, ближе к огородам, был большой старый совершенно запущенный сад, и в конце его два пруда, выложенные по дну и по берегам камнем, поверх которого набралось уже немало ила и всякой грязи, потому что их никогда не чистили. На берегу одного из прудов стоял необычайной толщины огромный вяз, вероятно еще с тех пор, когда вся теперешняя усадьба больницы составляла загородную резиденцию Государственного прокурора Глебова-Стешнева, у которого она была куплена для наследника престола малолетнего Павла Петровича для постройки здесь больницы. Это было в первое время царствования Екатерины II. Против больницы (и теперь есть), была большая площадь, на которой находятся Александровские казармы, выстроенные года за 3 до моего поступления в больницу. И вся эта площадь раньше была занята лесом и болотами в нем. В этих болотах водились кулики и даже утки, за которыми охотились ординаторы больницы в часы досуга, в том числе и доктор Репман. Теперь к больнице шло довольно хорошее шоссе от Б.Серпуховской улицы до Даниловского монастыря, а раньше, до постройки казармы, была грунтовая дорога, по которой ни один извозчик не решался ехать в больницу, особенно ночью. Старожилы этой местности, особенно жители Даниловской слободы (за заставой Серпуховской) говорили мне, что вся эта местность за последние годы стала неузнаваемая. Тянувшиеся здесь день и ночь длинные обозы со всяким товаром в ту и другую сторону через Даниловку по Варшавскому или Каширскому шоссе, теперь совершенно прекратились, точно провалились куда-то, и Даниловская слобода, почти сплошь состоявшая из постоялых дворов, кабаков и трактиров значительно обеднела. Теперь она поддерживает свое существование лишь тем, что сдает у себя помещения под квартиры фабричным рабочим. Перейду теперь к жизни самой больницы. Во главе ее стоял Левенталь, как Главный доктор. Он унаследовал свое место от отца, бывшего в больнице тогда, в должности главного доктора 40 лет, и в прошении его на это место он просил определить его в память отца (я читал сам это прошение). Должно быть у него лично не было никаких заслуг, иначе он не ссылался бы на отца, а выставил бы эти заслуги в прошении. Его отец Густав Иосифович был, кажется, из взятых у Наполеона I пленных, по рассказам знавших его, был очень маленького роста, говорил до смерти с немецким акцентом, был похож на обезьянку и, несмотря на все это, пользовался большим успехом у московских дам своего времени и огромной практикой; он ездил всегда или на четверке или на шестерке лошадей; таков тогда был обычай у врачей: чем больше значения придавал себе врач, тем большее число лошадей впрягалось в его экипаж и соответственно этому, тем дороже оплачивался его визит, а про молодых, не подчинявшихся этому обычаю москвичи говорили: “вот ведь какой человек, ездит на одной лошаденке, а какой знающий человек”. Те порядки, которые я застал в больнице, были заведены еще Левенталем-отцом и культивировались сыном. Замечательно было то правило, которого строго придерживались в больнице, а именно: если больной поступал утром, ему в день поступления не давалось никакой пищи на том основании, что на его долю не было отпущено вчера вечером продуктов, а если он поступал после составления ведомости, т.е. после 12-ти часов дня, то он получал первую пищу лишь послезавтра, хотя он болел от истощения, т.е. голодал. Стало быть, каждый больной проводил в больнице двое суток без пищи. С этим можно было еще мириться, если больной был в бессознательном состоянии (ну хотя бы тифозный), а каково положение такого больного, который поступил по поводу какого-нибудь травматизма, например перелома голени? Ему не есть трое суток трудновато. Затем выздоравливающих отпускали из больницы только на завтра, и на завтра же ему(им) не выписывали порцию, а иногда, в экстренных случаях отпускали из больницы в день выписки, и это называлось “выписан одним днем”. Что это за выражение? Русское ли оно? Где его начало? Кормление больных было самое ужасное, и как это могло быть, что на него не обращалось должного внимания? Я думаю, что это зависело от того, что к 11 часам визитация врачей уже должна была быть окончена, и врачи, кроме дежурного, уходили из больницы, а пища раздавалась лишь в 12 часов. Стало быть, врачи и не видали, чем кормят их пациентов, вверивших им свое здоровье и свою жизнь. Я, как принявший на себя заведование мужским хирургическим отделением, задерживался иногда довольно долго в больнице, особенно если производилась в какой-нибудь день операция, и, стало быть, мог видеть, чем кормят больных. С первых же дней я был поражен этой пищей, и дал себе самому слово добиться улучшения ее, во чтобы то не стало. Но я видел уже, что производить здесь ломку направо и налево было невозможно: скорее меня самого сломают, чем я пробью эту крепкую стену, которой окружена вся больница. И я начал вести дело постепенно, но упорно, постоянно, говоря Левенталю, что пища у нас недостаточна, что нужно ходатайствовать об увеличении ассигновки на содержание больных, хотя бы ввиду того, что стоимость пищевых продуктов возрастает, что если раньше можно было накормить человека на 15-17 копеек, то теперь он на эту сумму сыт не будет. Этот последний аргумент подей-ствовал, кажется потому, что и само начальство по собственному карману убедилось в правоте его, но это было года через три и даже больше после начала моих хлопот, незадолго до смерти самого Левенталя. Сделано было распоряжение о том, чтобы была комиссия для составления нового расписания порций больных и о пересмотре старого довольствия. В эту комиссию вошли: я, как инициатор всего дела, в качестве председателя и двое врачей - Рещиков и Репман, и письмоводитель Халютин. Репман вперед сказал, что он ездить в больницу для заседаний в комиссии не будет, а подпишет все, что она выработает. Обошлись без него. Мы просидели над расписанием несколько вечеров, выработали новое расписание, по которому в состав кушаний входило гораздо больше прежнего жиров и белков, и количество хлеба, а так же и молоко, но за то содержание больного обходилось уже в 22 коп. в день. Кроме того из этой же суммы получали обед дежурный ординатор, на которого отпускалось бы 50 коп. в день и фельдшер, на которого 40 коп. Это расписание было утверждено почетным опекуном уже при новом Главном докторе Ураносове и действовало больше 25 лет. Теперь, когда цены поднялись на все пищевое до невероятной высоты, оно должно быть, не действует. Лица, близко стоявшие к казенной кухне увидали во мне своего врага, который может затронуть их личные интересы, и старались окольным путем подкупить или задобрить меня, а тафельдеккер Вадиков своевременно умер. Я стал добираться не только до качества продуктов, но и до количества их, и тут совершенно случайно вскрылось оригинальное явление. Ежедневно отпускалось много порций гречневой каши и на обед и на ужин, всего не меньше 150 порций. Я спросил в кухне, как они отмеривают крупу для каши. Мне показали, что для ускорения отмеривания у них существует мерка - кадочка дубовая, на которой выжжена цифра 1843, т.е. год ее приобретения, что в нее входит крупы ровно на десять порций, если насыпать под гребло; а если кашных порций столько, что число их не делится на 10 без остатка, напр. 84, то 4 ф. отвешиваются на весах. Что сомневаться в верности этой кадочки нельзя уже потому, что она действует давно, за 3 года до моего рождения. Но я с комиссией все же усомнились в правдивости этой кадочки, велел отмерить мне крупу на десять порций, для чего ее наполнили, но не под гребло, а с небольшим верхом и поставили на весы. Оказалось, что кадочка показала безупречно то количество веса, которое по расписанию нужно на 10 порций. Но так как варится только крупа, а кадочка остается не вареной с 1843 года, я велел высыпать крупу во что-нибудь, хотя бы в салфетку и снова свесить крупу. При этом взвешивании зерна оказалось достаточным по расписанию не на 10 порций, а только на 8, а кадочка отдельно весила два фунта. Стало быть от каждых 10 порций зерна не поступало в котел 2-х порций, т.е. 20%. Если считать, что от каждой порции оставалось зерна 20% или 1/5 часть, что от 150 порций в день оставалось в экономии крупы на 30 человек, а по весу согласно расписанию, приблизительно фунтов5-6, что составляет в месяц 150-180 фунтов, т.е. 3 1/2 - 4 1/2 пуда в месяц, а чем больше кашных порций, тем больше и экономии крупы. Все это было запротоколено и заявлено Главному доктору, но заявил ли он сам почетному опекуну - неизвестно. Скорее всего, что промолчал, потому что ответственность падала ведь и на него, что он смотрел все двадцать пять лет пока служил, как у него под носом было такое бесцеремонное воровство. Тут-то и раскрылась причина, дозволявшая человеку, получавшему 5 рублей жалованья, держать свою лошадь и кучера. Считая, что пуд крупы стоил только 4 руб. в год, составлялось экономии и поступало в чей-то карман от170-220 рублей от одной только крупы, а от хлеба утаивая только по 1 золотнику от фунта и того больше, потому что невозможно требовать от человека, чтобы он мог отрезать именно 96 золотников, а не 95, а если эта ошибка допустима, то почему не разрешить и 94 зол. вместо 96. А что давала экономия говядины? Ведь она доставлялась с костями, которых в нашей говядине бывает обыкновенно четвертая часть. Тут уловить вора можно лишь тогда, когда сырое мясо будет взвешено, положено в котел и вынуто из него и разделено на порции в присутствии контролера, неуклонно следящего за судьбой говядины и не спускающего с нее глаза ни на одну секунду, а если он отвернется или выйдет из кухни хотя бы на две минуты - он может быть уверен, что его обманут. Та же судьба и с сеном, и с овсом и с керосином, а ремонт здания, особенно переделка полов, т.е. замена старых досок новыми тоже чего-нибудь стоит. Это делалось так: полы вынимались, нижняя сторона их выстругивалась и они клались на свое место краской старой вниз (чтоб не сырели?), а в это же время усиленно стругались половые доски на дворе, но для какого-то другого дела вне больничной усадьбы. Тут уже была экономия и подрядчику строителю. И так шло дело из года в год, и все были довольны и невозмутимы. Но дернул же черт меня впутаться в это дело и раскрыть глаза кому следует. Но и тот, кому следовало знать все это, оказалось, если не знал вполне все это, то подозревал и смотрел на все сквозь пальцы, лишь бы не тревожили его самого и не связывали с подобными делами его имени, а главное - не болтали бы об этом нигде. Так дело шло все время, пока был жив Л.Г. Левенталь. Сам он был когда-то хороший, знающий врач, следил за наукой и, благодаря хорошему знанию иностранных языков, делал много рефератов по разным вопросам, особенно в терапии, но в последние годы, когда начал болеть хроническим воспалением легкого, все забросил, не посещал уже ни Городскую думу, в которой состоял гласным, ни человеколюбивое общество и его лечебницу, в которой он был деятельным членом, а оставался лишь в должности Главного доктора больницы; но и тут далеко не ежедневно посещал ее, и все бумаги и истории болезней выходящих больных относились ему для подписи на квартиру. Он приходил в больницу лишь в те дни, в которые приезжал почетный опекун управляющий больницей, но это делалось не чаще, как раза два в месяц. Так что все дело шло как-то само собой, а иногда ему нашептывала кое-что надзирательница А.И.Очкина, бывавшая ежедневно у его жены и сообщая обо всем, что делалось в больнице, представляя все в собственном освещении. Конечно, темой для этих сообщений был в первое мое время я, со своими протестами и нововведениями, которые шли вразрез со старыми порядками, особенно с желанием наблюсти чистоту действительную, а не закрытую простыней. <..........> Так все продолжалось при жизни Левенталя, очевидно он не мог или не хотел расстаться с теми порядками, которых он держался 25 лет, а может быть он-то и завел их. Бороться с ними нужно было не мне одному, а всем служащим вместе; но мои сослуживцы относились к моим новшествам или индифферентно или с тайной насмешкой, и, когда я надел на себя сделанное мне белое полотняное пальто, в котором начал обход по палатам, так все сходились ко мне в отделение и немало смеялись над моим одеянием. А один из сослуживцев, фельдшер Дмитриев, имевший свою корову, даже много лет спустя после моего поступления в больницу, надевал белое пальто только тогда, когда шел чистить свой коровник. Очевидно, он понимал, что такое пальто имело назначение сохранить его одежду от загрязнения. Так думал не один Дмитриев, но и некоторые врачи. И только через 20-25 лет все поняли значение чистоты, особенно в хирургическом отделении. И во всех московских больницах было заведено правило, что никто посторонний не входит в операционный зал в своей одежде. А в клиниках, например, в хирургической клинике Дьяконова и в общине Красного креста на Ордынке, входя в операционный зал нужно было надевать тамошние резиновые калоши, потому что все время оперирования пол по временам поливался водой, да и можно ли было ручаться за то, что на подошвах нет никакой заразы. Гинекологи в увлечении асептикой дошли до того, что обрили у себя и усы и бороды, даже обрили головы. Недоставало только того, чтобы в порыве увлечения сбрить брови и повыдергать ресницы. Ведь на каждом волосе может таиться зараза... Пошатнулись прежние порядки со вступлением на должность Главного доктора нового лица, бывшего помощником Главного доктора в I-й Городской больнице, Григория Александровича Ураноссова. Как врач, он был ниже всякой критики, ему следовало бы занимать по его свойствам место смотрителя, но никак не врача. Он умел низкопоклонничать перед начальством и когда разговаривал с почетным опекуном по телефону всегда низко нагибался и шаркал ножкой, застегиваясь на все пуговицы. Он был чиновник вполне и все же не умел составить толковую бумагу, но зато ловко обманывал то же начальство, особенно почетных опекунов, так как они от старости своей уже ничего не понимали. Он делал даже подлоги в записных книгах, которые, если бы раскрылись, доставили бы ему много неприятного. В I-й Городской больнице радовались, когда стало известно, что он оттуда уходит, но у нас не радовались. А попал он к нам благодаря тому же барону Бюллеру, который еще при жизни Левенталя наметил ему приемника и, будучи в коротких отношениях с ним, присылал одного молодого врача, состоявшего при его Архиве Министерства Иностранных дел к Левенталю, чтобы спрашиваться о его здоровье, т.е. узнать, скоро ли он умрет. Этот молодой врач был Виктор Никитич (не знаю фамилии), свояк Ураноссова. Почему именно на это место не назначался никто из нашего Ведомства - не знаю, хотя было немало кандидатов вполне достойных. Тут-то вот и сказалось самоуправство почетных опекунов, против которых никто ничего не мог сделать. Я считал себя тоже в числе кандидатов, как и Владимир Андреевич Тихомиров, бывший уже экстраординарным профессором; оба мы были доктора медицины, у каждого были свои заслуги, но на нашей стороне не было почетного опекуна, который всецело стоял за Ураноссова, видя его главное достоинство в том, что он был тогда уже статским советником. Я нашел себе некоторую протекцию в Петербурге: мой хороший знакомый Николай Иванович Щукин, племянник известного профессора С.П.Боткина, просил своего дядюшку замолвить за меня словечко во Дворце, и он замолвил, но только фрейлине императрицы Марии Федоровны Озеровой, но этого мало было, и Бюллер, возвратясь из Петербурга, вызвал меня к себе и сообщил мне, что фрейлина Озерова отзывалась обо мне с очень хорошей стороны, а он, стало быть, все же сделал по-своему и не обратил внимания на ее ходатайство. В этом он видел свое преимущество и силу большого чина. Оказалось, что права пословица, говорящая, что будто бы рыбак рыбака видит издалека. Он посадил к нам такого же чинаря, как и он сам. Теперь стало жаль Левенталя, что он умер слишком несвоевременно, ему бы умереть немного позже, когда будет другой поч. опекун или раньше, пока был опекуном Батюшков или кто-нибудь другой, а только не эта баронская крыса. <........> Вообще его (Ураноссова) программа произвела на врачей неприятное впечатление: это читал не врач свои намерения, а смотритель, чиновник. Впоследствии он остался верен себе: на каждом шагу в нем виден был смотритель или десятник над рабочими, опасающиеся, чтобы его не обманули рабочие, не надули бы его, и оттого не пострадал бы его карман. Вместе с тем, он заботился о том, чтобы сделать всякие улучшения в своей квартире и не жалел на это казенных денег, а на всякое улучшение в квартирах служащих смотрел, как на ненужную затею, прихоть; даже если нужно было вставить новое стекло в окне, так и об этом нужно было говорить несколько раз и даже писать в контору. Затем он начал писать разные циркуляры и служащим, в которых делал распоряжения по больнице. Эти циркуляры предлагались для прочтения и подписи всем служащим. Их приносил обыкновенно швейцар, дожидавшийся пока его подпишет тот, кому он принес бумагу и затем шел к Ураноссову и сообщал, что сказал при этом подписавший. Это уже своего рода шпионство за сослуживцами. Шпионство было в его духе и он устраивал его всюду, где только мог. Он подговаривал фельдшеров доносить ему все, что без него говорят врачи, особенно про него, и поощрял шпионов наградами гораздо большими, чем других. Он скоро сошелся с сверхштатным ординатором Н.А. Живописцевым, за которого стоял горой, и который впоследствии отплатил ему самой черной неблагодарностью. Ураноссов через него знал не только все то, что делается в больнице, но и то, что делалось раньше, так как Живописцев служил уже здесь несколько лет, а до службы жил в больнице, состоял репетитором сына Левенталя. Он выбивался из ничтожества, так как был сыном бывшего квартального надзирателя, не получил никакого воспитания, да и какое воспитание мог получить мальчик, живший под полицейской пожарной каланчой и, будучи шестилетним ребенком, уже фигурировал в суде в качестве свидетеля по делу об изнасиловании каким-то пожарным солдатом одной женщины. И вот эти два лица, один из духовенства, другой из полиции, встретившись, сошлись и подружились; но дальнейшие обстоятельства показали, что Живописцев был подальновиднее своего нового друга и из сближения с ним старался извлечь свои выгоды, к чему он стремился всю свою жизнь, встречаясь с людьми. Он всегда заискивал в людях в первое время встречи с ними, всматривался, нельзя ли будет попользоваться от них чем-нибудь для своих выгод и, если находил, что они для него бесполезны, почти демонстративно уклонялся от них. Говорю все это на основании собственного опыта. В первое время по поступлении Ураноссова в больницу дружба его с Живописцевым поражала всех тех, которые еще не знали свойств Ураноссова, не знали, что ему нужен надежный шпион; но которые говорили, что такая дружба недолго продолжится, и они не ошиблись. Дружба была до того интимна, что их видали иногда и в театре, сидящими в общей ложе и в ресторане за отдельным столиком и, конечно, они часто бывали в квартире друг у друга. В дежурной комнате, в совещательном зале, в палатах больницы - они были постоянно вместе, точно приросшие один к другому. Покровительство Ураноссова выражалось на каждом шагу, хотя бы для этого нужно было и солгать. Был такого рода случай, о котором следует здесь записать. Однажды консультант по гинекологии Александр Николаевич Соловьев, тоже друг Живописцева, а стало быть, и Ураноссова, сделал операцию овариотомию, но так неудачно, что больная умерла до выноса ее из операционной залы, а в это время приехал почетный опекун кн. Трубецкой и, проходя по коридору женского отделения заглянул в операционную; там на кровати лежала уже умершая женщина, покрытая совсем с лицом простыней, а стоящая около нее сиделка прикладывала ей на голову резиновый мешок со льдом. Трубецкой спрашивает: “Это что такое?” “ Это, Ваше Сиятельство, больная оперированная, которая еще не пришла в сознание”. И князь удовольствовался этим и этим показал свое полное невежество или неведение во всем этом деле. Он не знал того, что если больной от хлороформа не приходит в сознание, то обязанность врача привести его в сознание, дать ему свободный доступ воздуха, а не закрывать ему лицо простыней и, во всяком случае, не класть на голову лед, а уже если непременно хочется положить что-нибудь, из усердия, так горячую воду, чтобы вызвать прилив крови к мозгу, а не анемию его, которая уже налицо вследствие хлороформа. А что не было около больной ни одного врача - этого не заметил Трубецкой. <......> Еще случай. Поступила гинекологическая больная в отделение Живописцева, ей делают овариотомию, от которой она умирает, но Уроноссов своей рукой отмечает в приемном журнале, что она выходит из больницы, а в день выхода записывает ее вновь как поступающую опять с тяжелым воспалением легкого, от которого она умирает. Вышло так, что она умерла действительно в тот день, как об этом записано в книге, но не от операции, а от воспаления легкого, которого у нее не было, а история болезни составлена по произволу с изложением фактов никогда не существовавших. Это, конечно подделка в официальной книге, подделка документа, но для чести Живописцева он готов и на это. Кроме того, это ведь не портит, а улучшает статистику операций и выставляет больницу в лучшем свете в глазах начальства “А перед начальством всегда нужно - постоянно твердил Ураноссов, - ползком, ползком. Но не унижаясь.” Интересно было бы видеть, как бы ползал Ураноссов, не унижаясь. И вот с таким -то человеком пришлось мне служить в больнице около 20-ти лет. Много напортил он мне крови, много наделал зла, а в последние годы он не удовольствовался тем, что лгал по поводу меня, он начал настраивать против меня и высшее начальство в Петербурге, представляя меня там, как человека совершенно искалеченного болезнью, а потому негодного для продолжения службы, что болезнь моя неизлечимая, и что меня для пользы больницы нужно заменить другим молодым здоровым лицом, что теперь ему самому приходится заменять меня в больнице. Приезжавшие по временам инспектора (медицинские) из Петербурга видели это вранье, но как люди петербургские давали ему какое-то направление и значение, что все оставалось по старому. <.......> Я рассказал здесь про Ураноссова как Главного доктора, т.е. администратора. Но каков он был врач, как хирург, каким он считал себя? Приведу здесь несколько фактов, разъясняющих эти вопросы. Когда основалось в Москве хирургическое общество, в конце 70-х годов, он, Григорий Ураноссов желал попасть в число его членов (для вывески) и по Уставу общества должен был сделать в нем два сообщения. Он сделал одно, касающееся статистики ампутаций, но напутал в нем что-то невероятное и нелепое настолько, что был совершенно разбит тогдашним секретарем Общества д-р Костаревым (он же и основатель его). Ураноссов не мог отбить те доводы, которые приведены были против него, и не решился уже выступать со вторым сообщением и навсегда простился с мыслью о поступлении в Общество, но затаил в себе эту обиду и при всяком удобном случае готов был уколоть, уязвить общество между своими приспешниками и радовался, чуть не плясал, когда редактор Медицинского обозрения д-р Вас. Феликс. Спримон в одной статье довольно резко высказался против общества за то, что оно отстаивает свой Устав, по которому членами общества могут быть лишь доктора медицины. <.......> Второй случай. Во время моего отсутствия из дома в больницу доставлен больной с тяжелыми переломами костей правой ноги. Он работал при машине, дробящей кости для обжигания их, и случайно попал сам ногой, концом сапога в нее, а она постепенно втягивала ногу в себя и постепенно же разбивала кости. Так она разбила всю стопу, всю голень, колено и половину бедра, и только тут была остановлена. Когда потерпевшего вынули из машины, его нога представляла собой кожаный мешок, наполненный костями, кусками, а кожа нигде не продырявлена. Больного тотчас отвезли в больницу к нам, и принимавший его ординатор сообщил Ураноссову, что меня нет дома, а больному необходима операция немедленно. Ураноссов взялся выполнить ее сам и выполнил. Но как? Что было до моего приезда, сколько хлопот, бесцельной поспешности, бестолковости, крика и всякой брани, как мне потом говорили, я не знаю, но я застал такую картину: операционная зала освещена лампой (был уже вечер); в комнате масса народу; на операционном столе лежит захлороформированный больной, около него стоит швейцар и держит оперируемую ногу; по полу разбросаны бинты и вата, и тут же около стола лежит отпиленная на середине бедра нога; все присутствующие что-то говорят довольно громко, а сам оператор Ураноссов громче всех. Когда увидели, что я вошел в зал, Ураноссов воскликнул: “ А, приехал! Ну пусть теперь справляется, как знает.” Затем он обмакнул руки в воду в тазу, вытер их и буквально убежал; за ним убежали и остальные. Со мной остались лишь фельдшер хирургического отделения и сиделка. Нужно было осмотреть рану. Оказалось, что бедренная кость отпилена так низко, что конец ее ни в коем случае не может быть покрыт мягкими частями. Сколько бы ни натягивали их, все же около вершка кости не закроешь; стало быть, нужно было делать новый распил кости; артерия бедренная была еще завязана; шелковые лигатуры в беспорядке лежали на столе. Эсмарховский жгут затянут так крепко, что впился в мягкие части. Все нужно было делать постепенно с распила и перевязки артерии. Все скоро было окончено, больной проснулся, когда все вокруг него было убрано. Замечательно то, что у этого больного заживление раны (на границе между средней и верхней третями бедра) шло чрезвычайно удачно, под одной лишь повязкой. Никакого повышения температуры не было, и когда через две недели после операции я снял у него повязку, наложенную в операционном зале, оказалось, что рана на всем своем протяжении срослась per primam intentionem, дренажи из гусиной кости рассосались, от них остались лишь те кусочки (кружочки), которые выстояли наружу. Конечно, все швы и глубокие, и поверхностные были немедленно удалены. Этот больной (Антон) не особенно горевал о потере ноги, говоря, что он знает деревенское портновское дело, и оно прокормит его, а если потерял ногу - на то воля Божья. Еще случай. Был больной, которому сделано вылущение голени по Гротти (инспектор Духовной семинарии); в день операции он не мог выпустить мочу; она не шла у него; позвали дежурного Пав. Гр. Розанова, этот вводил. вводил катетер и не ввел, а только искровянил больного. Он в свою очередь позвал Ураноссова, как хирурга. Этот стал вводить и не смог; тогда он взял велатоновский катетер совершенно мягкий и упустил его совсем в уретру, и достать никак не мог. Решили - впредь до приезда Ивана Ильича перевязать ... вместе с катетером, чтобы он не ушел глубже. А вынуть инструмент пинцетом не догадались оба. Розанову то извинительно. А Ураноссову? Он считал себя хирургом потому, что когда-то заведовал хирургическим отделением, но как шло это отделение - неизвестно; известно лишь то, что все операции в нем делал доктор Клин - Главный доктор больницы, а на долю Ураноссова оставались переломы, вывихи, язвы и т.п. Он не был принят и в хирургическое общество, как сделавший неудачный доклад в нем; в области эмбриологии имя его было известно по исследованию роста костей из хряща, которое он производил на поросятах в утробной их жизни и в разные периоды, о чем упоминал на своих лекциях проф. Бабухин. Но эти исследования не имели никакого применения к практической медицине, а он ведь считал себя хирургом практиком, научно образованным, чтобы больше пустить пыли в глаза замоскворецкой публике, съездил даже за границу как бы с научной целью, а на самом деле вся эта поездка ограничилась тем, что он побывал лишь в Вене, и, конечно, ничего там не понял и не видал, и когда его спрашивали по возвращении в Москву, ну что там хорошего он видел, он с бойкостью отвечал, что ничего там особенного нет, все то же, что и у нас у Калужских ворот. <......> Каков он был как врач-лечитель видно из того, что наш же сослуживец Владимир Андреевич Тихомиров говорил мне не раз, что он на экзамене студенту 2-го курса поставил бы двойку, если бы он написал такой рецепт, какие обыкновенно писал Ураноссов. А нужно помнить, что Тихомиров был очень снисходительный экзаменатор и ставил двойку лишь в исключительных случаях, т.е. при полном непонимании дела. Ведь бывали же такие студенты, а к их группе относился и Григорий. Насколько наши с ним отношения были не натянуты, а нелепы, видно из того, что мы с ним не говорили ни слова друг другу, разве только в конторе, при посторонних свидетелях, а если иногда я проходил по коридору больницы, а он шел ко мне на встречу, так он, завидевши меня, бросался без всякой надобности в первую же открытую дверь в какую-нибудь палату и выжидал там, пока я пройду мимо, а затем выбегал и прятался в контору и запирался там на замок. Так у нас продолжалось дело четыре года. Очень милые отношения. Тем не менее по службе нам приходилось встречаться, и эти встречи всегда носили чисто официальный характер, а когда приходилось выписывать что-нибудь для отделения, например, вату гагроскопическую или марлю для бинтов, он всегда разрешал выдать выписываемое в половинном количестве, например, я выписывал ваты один фунт, он разрешает выдать 1/2 фунта; я выписываю марли 10 аршин для бинтов, - он разрешает выдать 5 аршин. Руководясь этим сокращением, я следующий раз выписываю ваты 1/2 фунта, он разрешает выдать лишь 1/4 фунта, а марли я пишу 5 аршин, он сокращает до 2 1/2 аршин не заботясь о том, каковы будут бинты в 2 1/2 аршин и что из них можно сделать, годны ли они, а так же и какова будет вата, если в аптеке будут растрепывать фунтовые пакеты и делать их, отвешивая 1/4 фунта. Он всегда старался уколоть меня в самое больное место, указать мне на то, что у меня в отделении и даже в операционной не чисто, грязно. Он внушил эту мысль даже такому идиоту, как почетный опекун кн. Трубецкой, который однажды зашел в операционную, подошел прямо к шкафу с инструментами и, глядя туда через стекло, сказал мне: “Как у Вас тут нечисто, грязно”, - и указал на резекционные долота, рукоятки которых тоже металлические были отделаны в серый цвет, и только что положены после мытья их на полку; он вероятно думал, что и рукоятки инструментов должны блестеть, и когда я сказал ему про это, он отвернулся от шкафа и в смущении отошел от него, а Ураноссов, сопровождавший его, только покраснел (вероятно от досады) и пошел вслед за ним, что-то нашептывая ему, вероятно про меня. Дело дошло до того, что он назначил ко мне в отделение фельдшера, никогда в жизни не бывавшего в больнице и, стало быть, не имеющего понятия ни об операциях, ни о дезинфекции; это был усердный, но неграмотный человек, которого я едва приучил писать слово “две” через ять, чему он много удивлялся и сперва даже говорил мне, что если писать через ять, то кто-нибудь пожалуй прочтет это слово не как “две”, а “двядь”. А перед этим он посадил ко мне фельдшером человека, который был лишь служителем в лазарете и не мог написать ни одного слова латинскими буквами, но так как сообщал все, что видел и слышал, что говорят в больнице, то скоро сделал его старшим фельдшером, хотя тот, как не учившийся ни в одной фельд-шерской школе, не имел на то никакого права. Этот quasi` фельдшер не скрывал того, что он наушничал Ураноссову и бывал для этой цели даже у него на квартире, и потому сослуживцы его немало посмеивались над ним и называли его ураноссовским телефоном, но он только посмеивался на их слова. Одни говорили, что он получает от Ураноссова за свои доносы поштучно, другие говорили, что огулом, но в точности знали об этом очень мало, а благоволение начальства к нему было очевидно. Ураноссов считал себя почему-то знатоком строительного, особенно архитектурного дела, ввязывался в распоряжения по постройкам, потом оказалось, что и в этом деле он швах. Например. Опекунский совет решил, чтобы построить на земле, принадлежащей Павловской больнице, особые бараки (для кори, оспы, скарлатины, рожи, дифтерии). Решил; сделали. Послал архитектора в Петербург, чтобы осмотреть тамошние бараки для заразных, снять с них копию и сделать то же в Москве. Ураноссов почему-то ликовал, когда решили делать бараки на дворе Павловской больницы, здесь его деятельности, как десятника, был полный простор. Закладка зданий совершилось торжественно в присутствии всего Московского совета, члены которого, одни приехали сами, других привезли, а третьих уже принесли. Все они были разодеты в свои золоченые мундиры, обвешаны орденами и лентами, словом - цветник был невероятный. После молебна и закладки зданий был, не знаю от кого, завтрак всем опекунам и больничному персоналу. Стройка шла довольно быстро, а через год после выстройки в одном из бараков провалился потолок, а еще через год, приехавший инспектор Павлов разнес эти бараки ни к строю, ни к смотру, заявивши, что они хотя и сделаны по одному из петербургских образцов, но этот образец признан сведущими людьми совершенно негодным, не отвечающим требованиям гигиены и, обращаясь к нам, врачам, спросил, как мы могли одобрить такую странную постройку будто бы кто-нибудь спрашивал наше мнение об этом деле, которое было всецело в руках Ураноссова и кн. Трубецкого, т.е. того же Ураноссова. Этот же Павлов разнес и дезинфекционный огромный аппарат, купленный по сходной цене, как подержанный и которым Ураноссов хотел пустить пыль в глаза кому-то, особенно Трубецкому и всему Опекунскому совету. Аппарат оказался по инструкции своей никуда не годным, как недостигающим своей цели и потому-то и был продан по сходной цене, вместо того, чтобы идти в лом. Стало быть и тут Ураноссов сплоховал. Но зато он был неподражаем, когда делались водосточные колодцы и выгребные ямы: в этих случаях он лежал обыкновенно на брюхе на берегу такой ямы, свешивал в нее голову и оттуда указывал каменщикам: “Вот так, вот так. Подбавь еще цемента в ту вон щель. Хорошо. Помочи кирпич-то, помочи его, чтобы он всосал в себя цемент.” Тут он был на своем месте. Когда он задумал строить себе дом у Калужских ворот в Ризоположенском переулке, он весь отдался этому делу и не позже 10-ти часов утра уходил уже на свою стройку, которую вели те же подрядчики, которые работали и в больнице, но, вероятно, без всякой для себя выгоды, потому что он смотрел постоянно в оба глаза и не давал возможности обмануть себя. Когда дом был готов, он переехал в него из больницы, женившись вновь, так как первая жена его к этому времени уже умерла от чахотки, да и как было не умереть, живя с таким идолом? Переезд его в дом совершился на казенных лошадях, а чтобы скрыть это незаконное пользование, подводы вывозились не через обыкновенные ворота, а через запасные, как будто это могло скрыть что-нибудь. Смотритель (Богданов), конечно, не мог этому противодействовать, потому что был глуповатым и совершенно забитым существом. По переезде его дышалось в больнице не легче, потому что шпионы его остались здесь и аккуратно доносили обо всем, что делалось без него. Но все же он устыдился того, что об нем писалось во “Враче” и подал в отставку. Это было уже после того, как вступил новый опекун кн. Голицын. Между почетными опекунами были у нас еще два субъекта: севастопольский генерал Белевцев и петербургский чиновник В.С.Арсеньев. Белевцев был настолько стар и плохо видел, что, проходя по коридору иногда тыкался лбом в стену вместо того, чтобы войти в двери палаты. Однажды во время отъезда Главного доктора Левенталя за границу, у меня вышло неприятное столкновение со смотрителем, или лучше сказать с письмоводителем конторы Ив. Олимпиевичем Халютиным, который вел очень громкий разговор в приемной, когда я выслушивал больного, и тем самым мешал мне. Об этом доведено было до сведения медицинского инспектора Коха, который настроил Белевцева против Халютина, и вот на завтра оба они явились к нам и хотя они были в дружеских отношениях и часто бывали друг у друга и играли вместе в карты, но тут Кох сразу стал в официальное положение и доложил Белевцеву все дело, сообщивши ему о невозможности исследования больного в такой обстановке, если тут же, почти над ухом, ведется громкий посторонний разговор. Белевцев вызвал к Халютина и грозя ему пальцем, громко воскликнул: “Я не позволю никому оскорблять моих господ офицеров!”. С ловкостью повернулся на каблучках и пошел из комнаты, натолкнувшись на стену почти носом, как это делал обломовский Захар. Нам оставалось или примириться с Халютиным, или выйти ему в отставку. Ввиду такого положения я первый протянул ему руку для примирения, и тем дело окончилось. Это был тот самый Белевцев, про которого гр. Алексей Толстой писал в солдатской севастопольской песне: “А Белевцев генерал, он все знамя потрясал: совсем не к лицу”. Перед коронацией Александра III-го, когда вся полиция принимала меры к тому, чтобы не произошло какого-либо покушения на царя, он, Белевцев, написал приказ в контору больницы, в котором предписывал, чтобы за три дня перед коронацией все сторожа постоянно были на своих местах, и чтобы ни одна живая душа не смела пройти на больничную усадьбу не замеченной, и каждое слово начиналось с большой буквы. Пробыл Белевцев у нас недолго, а потом назначен был заведующим Матросской богадельней за Сокольниками. Там окончились его дни. Был еще один чудачек из петербургских чиновников - Вас.Серг.Арсеньев, богатый тульский дворянин, служивший в комиссии прошений на Высочайшее имя присяжных. Это был ханжа и богомолец, смиренный и, как будто бы ласковый, но умевший показать волчьи зубы, когда чем-либо затрагивалось чиновничье достоинство, хотя бы и не его лично, но вообще - начальников. Жалобы, хотя бы и вполне справедливые на начальников, он не допускал. Он издавал журнал “Христианин”, имевший не более 8 подписчиков. Сын его, окончивший Московский университет и бывший уже магистром по какому-то “Праву”, по убеждению сделался священником в институтской церкви. Оба они, отец и сын, принимали участие в редактировании “Христианина” и служили молебен при каждой новой подписке на их журнал. Несмотря на то, что он изображал из себя набожного христианина, он однако же не пренебрегал золотым тельцом, и ради него отдал замуж свою дочь за известного московского идиота графа Владимира Орлова только потому, что граф был очень богат; брак этот был настолько несчастлив, что новая графиня менее чем через 1/2 года сошла с ума, и помещена в психическую лечебницу, где-то около Берлина. Мне приходилось видать этого графа у Горчаковой (начальницы 3-й женской гимназии). Он был поразительно глуп, даже не утирал слюни, которые текли у него из обоих углов рта. И таким-то слюнявым ртом он прикладывался к дамским рукам. Говорил он, конечно, больше по-французски. Несмотря на богатство и глупость, он был довольно скуп, и от него трудно было добиться какого-нибудь пожертвования на благое дело. Про этого же Арсеньева мне говорил старший чиновник Московской экспедиции Опекунского совета Мих. Мих.Рябов, что в одну из пятниц, когда заседает Опекунский совет, он встречал приезжавших в заседание опекунов и Арсеньев, встретившись с ним, спросил его: “А Вы ежедневно бываете здесь в канцелярии? Я думаю, что это ведь очень тяжело бывать ежедневно на службе, да еще утром?” Из этого надо заключить, что он либо притворялся, либо забыл, когда был на малых должностях, либо занимал такие, на которые нужно было являться не ежедневно. За это-то он и был действительным тайным советником и имел голубую ленту. Это относится тоже к характеристике наших “рассейских” вершителей судеб народа. После Арсеньева долго был у нас опекуном кн. Николай Петрович Трубецкой, бывший калужский вице-губернатор, пробывший долго в этой должности и так не попавший в губернаторы. Он был когда-то очень богат, т.е. не он лично, а жена его первая, и, не умея совсем вести дело в деревне, буквально проел и пропил состояние более чем в два миллиона рублей. Об нем я говорил уже раньше: это тот самый, при котором строились у нас бараки для заразных больных, главным образом институток и кормилиц Воспитательного дома. Здесь можно было бы сказать кое-что и о деятельности Московского Воспитательного дома, но это такой пункт, которого касаться в наше время было невозможно: кроме того, что он был в ведомстве императрицы Марии, но он находился под особым покровительством императрицы (жены Александра III) и, стало быть, его можно было или хвалить, или молчать о нем. А хвалить его было трудновато: порядки там были такие, что если бы он принадлежал земству или частному лицу, то служил бы неисчерпаемой темой для газет. Но в силу своего привилегированного положения, он был неприкосновенен, и всем газетам было предписано ни слова не говорить о нем под страхом закрытия газеты. Но все же кое-какие слухи доходили в публику и об этом учреждении. Так, например, дошли до Петербурга слухи, что между кормилицами Московского Воспитательного дома почти не переводится рожа, чаще на лице. Предписано было инспектору расследовать причину этого явления и принять меры к уничтожению его. По приезде в Москву он без Почетного опекуна и Главного доктора Воспитательного дома отправился в этот дом и то отделение, в котором находятся кормилицы с грудными детьми, в так называемый 5-й этаж, и сразу был поражен тем воздухом, который там был: это был нестерпимый вонючий пар, а не воздух, это было ужасное зловоние от гнилой мочи. Он спросил, где же сушатся детские мокрые пеленки. Ему ответили, что это делается в сушилке. Покажите мне сушилку. Повели в коридор и остановились перед дверью сушилки, которая оказалась запертой на замок. Где ключ от замка? У надзирательницы. Где надзирательница? Ее дома нет, ушла со двора. Найти ее и просить открыть двери сушилки. После многих колебаний и розысков нашлась и надзирательница и ключ от сушилки. Когда отворили двери, оказалось, что сушилка давно уже не отворялась, судя по тому сору и пыли, которые были на полу ее, и кроме того она была почти сплошь завалена какими-то старыми ящиками и сундуками и не служила уже давно своему назначению, а была складом ненужного старья. Где же сушатся пеленки? Вместо ответа на этот вопрос - молчание. Инспектор отправляется вновь в залу 5-го этажа и замечает, что у всех кроватей, на которых спят кормилицы, как ножной, так и головной концы тюфяков значительно приподняты сравнительно с серединой его. Поднимает конец одного тюфяка и находит под ним множество пеленок, свернутых комком, из которых некоторые уже загнили; тоже самое и под головным концом; тоже самое и подо всеми другими тюфяками; а всех их более 100 в одной зале. Все пеленки запачканы испражнениями и пропитаны мочой, уже записанные, стало быть, лежат здесь более недели... Вот и причина того зловония, которое поразило инспекторский нос. Но где же причина рожи, особенно на лице, главным образом на лбу и на носу? А вот где. Кормилицам полагается одеваться в кофту белую и на голову надевать особый убор вроде чепчика-кокошника из белой, сильно накрахмаленной ткани, по краю которой проходит оборка-плиссе, укрепленная на своем месте зеленой шелковой тесемкой. Ради экономии такие чепчики моются очень редко, может быть раза два в год, а с одной головы снимаются, кладутся в кладовую и потом надеваются на другую голову. Умываются кормилицы, конечно, каждый день, но им не дается полотенец; поэтому лицо и руки после умывания они вытирают или концом кофты, или подолом юбки, а волосы смазывают свечным сальным огарком, передаваемым от одной к другой. Когда кормилица заболевает рожей, чепчик с нее снимается, кладется в кладовую и лежит там немытый до нового употребления, т.е. до нового заражения. Очевидно, причина рожи может быть удалена не врачебными, а чисто административными мерами, указаниями на которые нельзя руководствоваться. Попробуй кто-нибудь укажи почетному опекуну на непорядок - и будет с ним то же, что было сделано с доктором Кватцем, когда он вздумал не послушаться Почетного опекуна Недгарда, за что и очутился вместо Москвы в Закаспийском крае военным врачом, а ведь был вполне прав, на что указали и другие врачи, вышедшие вслед за удалением Кватца в отставку. Это тоже относится к иллюстрации нашего времени и особых привилегий высшей чиновной бюрократии. Единственное отрадное явление из всех приезжавших к нам чинов представлял собой товарищ Главноуправляющего генерал Олив. Этот был совсем другого рода человек, земец, практик, хороший сельский хозяин. Ему поручено было расследовать причины, почему саратовский удельный округ, ведающий массой земель, дает сравнительно мало дохода. Он поехал туда, прожил там более года и, возвратясь в Петербург, доложил, что жизнь в Саратове не дешевле Петербургской, а служащие в уезде получают очень мало, сравнительно с петербургскими и потому невольно изыскивают себе посторонние доходы, и предложил увеличить всем им жалованье в несколько раз. Предложение это было принято и через 3-4 года получилось дохода на 4 миллиона больше, чем получалось раньше. На эти-то 4 миллиона и было куплено в Орловской губернии село Брасово для царского брата Михаила Александровича, в котором он и жил постоянно. Имение это, говорят, давало большие доходы, но могло бы давать еще больше, если бы не было такой массы административных лиц, содержание которых стоит очень дорого и если бы было сделано изменение в полеводстве, и вообще изменился бы порядок хозяйничанья. Кто назначался на должность Главного доктора больницы императора Павла I-го в Москве? В первой четверти 19-го столетия на эту должность был назначен по распоряжению, кажется императрицы, известнейший впоследствии всей Москве, а особенно Сибири, доктор Федор Петрович Гас (Гааз); он пробыл на этом месте недолго, всего лет десять и не оставил по себе никаких следов в устройстве или улучшении ее. Каков он был врач - в делах архива больницы следов не осталось, но нужно полагать, что эта деятельность не была выдающейся: он интересовался не столько медициной, сколько благотворительностью и за это последнее получил в Москве название “праведного доктора”. Об этом помнили хорошо еще многие старики в Москве и рассказывали мне, как он посещал бедноту, как провожал и встречал партии арестантов, направлявшихся в Сибирь; он был членом Тюремного комитета в Москве и по выходе в отставку из больницы, всю свою деятельность посвятил на служение бедным и особенно несчастным арестантам, которые друг от друга хорошо знали его и поверяли ему все свои дела и свои думы, прося его иногда о ходатайстве, где следует о пересмотре их дел, по которым они ссылались в Сибирь. Он требовал от просителей, чтобы они поведали ему только правду, без всяких выгораживаний себя, и иногда ему удавалось добиться пересмотра дела и освободить невинно осужденного. Замечательно столкновение его с Митрополитом Филаретом (катахизис, которого все мы заучивали от слова в слово в школе), бывшим председателем Тюремного комитета. Дело было так. Однажды он внес в Комитет предложение о пересмотре дела какого-то арестанта. На это предложение Филарет ответил: “Охота Вам Федор Петрович, ходатайствовать за них. Осужден, стало быть, стоит того”. Гас, в порыве встал с места и громко сказал Филарету: “Ваше Преосвященство, но Вы забываете Христа.” Филарет, не смотря на свою всегдашнюю сдержанность и окаменелость был поражен словами Федора Петровича, долго молчал, а потом сказал:”Нет Федор Петрович. В эту минуту не забыл я Христа, а он меня”. Поклонился и вышел из заседания при полном молчании всех членов присутствовавших. Обо всем этом, и вообще о жизни Гаса написано в прекрасной статье Анатолия Федоровича Кони. Он был совершенно одинокий человек, родом из Германии, и как попал в Россию - об этом неизвестно ничего, но говорил довольно хорошо по-русски и по требованию тогдашнего общества, по-французски, и конечно по-немецки, хотя в тогдашнее время немецкий язык был в загоне, как язык ремесленников. По примеру многих, он устроил фабрику для выделки сукон, но он, мало занимавшийся ею, доверил ее управляющему и потому в скором времени разорился на ней, и она закрылась. Жил он очень долго, и его часто видели на улице еще в 50-х годах и хорошо узнавали его по внешности, потому что он сохранил на себе костюм времен Екатерины II-й, т.е. вместо сапог - башмаки, короткие штаны, чулки, камзол и неизбежную косичку и пудру. Теперь, кажется, не осталось и людей, которые знавали его, и память об нем воскресла лишь благодаря А.Ф. Кони, который несколько лет тому назад написал о нем. Для точности справок Кони приезжал в Павловскую больницу, когда я служил там. Кто был Главным доктором в больнице до него - я не знаю. Но после него был Густав Осипович Левенталь, родом из Эльзаса. Раньше он был, кажется, в наполеоновских войсках просто фельдшером и за свой малый рост и вообще невзрачную фигуру попавши в плен в 12-м году, остался у какого-то барина, который сперва потешался над ним, а потом полюбил, а особенно жена его и оба они вместе выдвинули его и дали ему возможность сделаться врачом т.е. получить право врачебной практики, которой он и пользовался с большим успехом. С большим тактом вел он свои дела и служебные и амурные: московские дамы очень любили его и всячески баловали, каждая чем могла; а он не пренебрегал ничем, хотя и был семейный человек. Он нажил довольно порядочное состояние, имел свой дом в Москве (на Собачей площадке) и имение в Тверской губернии - стало быть, был дворянин, если владел крестьянами. Он прослужил в должности Главного доктора больницы сорок лет, умел ладить с людьми и хотя по тогдашнему закону первое лицо в администрации больницы был смотритель ее, он все же уживался со всеми хорошо и старые врачи, которых я застал в больнице при поступлении в нее (Рещиков и Репман), вспоминали об нем как о добронамеренном и незаносчивом человеке. Конечно под конец жизни он был и генералом и даже со звездой. После Густава Осиповича был сын его Алексей Густавович Левенталь, которого я застал уже и, стало быть, отчасти знал, может быть не настолько хорошо, как знали его другие, но все же достаточно, чтобы дать о нем соответствующую характеристику. Об его деятельности сохранились и документы. Сам он говорил мне, что по окончании гимназии он хотел поступить на филологический факультет, а поступил на медицинский, потому что в это время была Севастопольская война, при начале которой оказалось, что в России было мало военных врачей, а в них предстояла большая надобность, и потому все факультеты в университете были закрыты для вновь поступающих, кроме медицинского, стало быть, желавшие учиться в университете волей-неволей должны были делаться медиками; да и этим-то не дали тогда возможности доучиться до конца, а выпустили со званием врача при переходе с четвертого на пятый курс, стало быть, они не видали и самого существенного для будущего врача, т.е. ни госпитальной клиники, ни практического акушерства, ни судебной медицины, ни патологической анатомии. Они знали из медицины лишь выдержки и нечто, а полного курса не знали ни в чем. Александр Густавович, как сам он мне говорил, был оставлен, благодаря ходатайству отца, при Московском Военном госпитале и, служа там, имел возможность доучиться до конца, как постороннее лицо, а не как студент, и вот случилось так, что отец его умер в то самое время, когда у него были наиболее крупные и сильные связи в Москве вообще, а между почетными опекунами в особенности и он, Александр Густавович, подал прошение, чтобы его назначили на должность Главного доктора в память отца его, прослужившего сорок лет в этой должности. Другой заслуги он сам за собой не знал и не написал в прошении, это прошение его я читал собственными глазами и потому ручаюсь за достоверность его. Стало быть, вся заслуга - это отцовская, а не его, но по тогдашним взглядам на службу это была вероятно достаточная причина, и его представили и назначили. В первое время, говорили мне, он вел себя довольно развязно, как ведут многие молодые врачи, попавши на высокий пост незаслуженно; но потом остепенился и стал менее энергично проявлять свою деятельность, по крайней мере по отношению к врачам, да и врачи-то сами, за некоторыми исключениями, перестали быть рабами начальства и стали сами показывать зубы; но все же до конца жизни в нем сохранилась черточка, которую он желал выдвинуть на вид - это то, что он ведь Главный доктор и может в случае чего и навредить. Как врач он читал много и делал рефераты статей, написанных на иностранных языках. Для чтения этих рефератов собирались у него врачи того времени, обсуждали прочитанное, делились своими мнениями, словом происходило то, что теперь делается в ученых обществах, которых тогда не было, да и журналов-то было маловато, а ему делать это было легко потому, что он был хорошо знаком с новыми языками. Это обстоятельство выдвинуло его как научного человека и составило ему имя в Москве, но не в медицинской литературе, потому что у него не хватало все же смелости работать в ней вследствие недостаточно законченного медицинского образования, хотя он был и доктор медицины, написавший диссертацию “Об египетском воспалении глаз”. Он был постоянным сотрудником Русских Ведомостей, вел в них иностранный отдел со времени возникновения этой газеты много лет подряд. Когда я поступил в больницу (1881 год) на службу, он был в это время и гласным Городской думы, но вследствие расстроенного здоровья уже больше года не посещал думских заседаний; гласным же он был от Ведомства учреждений императрицы Марии, которых немало в Москве (больницы, институты). Он в это время даже не выходил из дома, а все бумаги и шнуровые книги ему приносили на дом для подписки. Он конечно хорошо знал, чем он болеет, но это особенно его не угнетало: он был как-то равнодушен к этому, но все же иногда являлось желание избавиться от болезни или улучшить свое состояние, и с этой целью он поехал за границу на юг Франции, где пробыл более полугода, но, конечно, без желанного результата. В нем сохранилась до самой смерти страсть к титулам и орденам, и всяким вообще отличиям. Незадолго перед его отъездом в Меран, объявлено было, что в такое-то время будет коронация Александра III, и что для охраны его особы учреждается особый охранный отряд из вполне благонадежных лиц, известных московской администрации, которые должны будут охранять государя на всех путях его следования и что эти лица будут снабжены особыми знаками. Этого было достаточно для того, чтобы Александр Густавович записался в число охранников. Интересно было бы видеть его в числе действительных охранников, если бы он остался в Москве во время коронации и как это сам он подумал о том, какое противодействие личное он сам мог бы оказать в случае намеченного покушения; что он мог сделать со злоумышленником? Он-то, маленький человечек, почти барчонок по воспитанию и физическому развитию? Когда кончилась коронация и через несколько месяцев после нее он возвратился в Москву, он не преминул напомнить кому следовало о том, что он был записан в охрану и потому просит о выдаче ему соответствующего знака. Желание его было удовлетворено, и он остался доволен тем, что может украсить свою грудь новым знаком отличия. Конечно, у него были и знаки красного креста, и все ордена Станислава I-й степени, которые он возлагал на себя и носил по установлению, как значилось в грамотах при пожаловании их. Возвратился из Мерана в положении много худшем, чем то, в каком поехал туда, но все же продолжал служить, лишь изредка выходя из дома. Он очень ревниво оберегал свои права и обязанности и не дозволял никому даже малейшего посяга-тельства на них, хотя бы и воображаемого. Обо всем, что делалось в больнице, он знал очень хорошо, хотя и не бывал в ней; ему все сообщалось ежедневно бывавшей в его семье надзирательницей больницы Анной Ивановной Очкиной, про которую говорили, может быть и злые языки, что она когда-то была с ним в близких отношениях. Было ли это действительно так или это были праздные разговоры - я не знаю, но знаю то, что он был с ней очень любезен, равно как и она с ним. И вот с этой-то особой у меня однажды вышло неприятное столкнове-ние. Дело в том, что я по поступлении в больницу начал вводить там противогнилостный метод лечения ран и вводил его неуклонно. Сделал я одному больному ампутацию голени, а на другой день повязка промокла и испачкала кровью и наволочку на подушке, и самое подушку, на которой лежала нога. Сделавши повязку я потребовал от сиделки, чтобы она дала другую чистую подушку с чистой наволочкой, но сиделка не выполнила мое распоряжение и на ту же подушку надела лишь другую наволочку. Я заметил это и довольно громко сказал сиделке, что она не сделала то, что я приказал. Та отговорилась тем, что так велела сделать Анна Ивановна, которая в это время стояла в дверях палаты, чего я не заметил раньше и еще громче сказал, почти крикнул, что сиделка в этих случаях должна исполнять то, что говорит доктор, а не то, что приказывает надзирательница и потребовал совсем другую подушку. Анна Ивановна конечно обиделась на меня за то, что я велел слушаться меня, а не ее, увидела в моих словах умаление ее престижа и до того расстроилась, что сойдя с места оставила на полу лужу, что ее еще больше обескуражило и она пожаловалась на меня Левенталю, который назавтра призвал меня к себе и сделал мне выговор за то, что я подрываю значение надзирательницы в глазах прислуги, что надзирательница такое же служащее в больнице лицо, как и я, и, стало быть, заслуживает уважения. Мои возражения он даже не стал слушать, говоря, что это будет долго, а он теперь утомлен. Тем дело и кончилось. Он очень следил за тем, чтобы дежурные врачи были на своем месте, и если кто-нибудь из них должен был отлучиться с дежурства, так непременно за него другой должен был написать записку о том, что с такого-то часа до такого-то он согласен дежурить за такого-то. Записка эта отсылалась Левенталю. При входе его в больницу коридорный служитель или он же помощник швейцара звонил довольно громко большим звоном извещая тем о прибытии его Превосходительства и, стало быть, о приготовлении всех служащих на встречу ему. Он начинал обход палат с ближайшей к входу и если заставал здесь ординатора, здоровался с ним, а затем подходил к I-й кровати направо и спрашивал про лежащего на ней больного:”Какого ему?”. Вопрос все равно был один и тот же, хотя бы больной был и такой, что ждать у него перемены было бы невозможно, например с положенной гипсовой повязкой по поводу перелома костей головы. Он никогда не выслушивал больного с легочными или сердечными болезнями, да и вряд ли умел; ведь в то время, когда он учился, это было не в ходу, и не было ни перкуторного молоточка, ни плоссиметра, а выслушивали через одежду; выстукивание делалось прямо пальцем по пальцу. Подкожного впрыскивания тоже не знали и даже в то время, когда учился я, т.е. после 1865 года постоянно писались статьи, в которых превозносилось подкожное употребление лекарств и преимущество этого способа перед внутренним употреблением. Но он тоже иронически относился к старым порядкам в госпиталях и подсмеивался над тем Главным доктором Московского военного госпиталя, бывшего во время его службы там, который подходя к двери палаты, останавливался в коридоре и, смотря пристально в палату направо и налево, делал назначение так: “Направо всем apis melifera, налево всем oleum ricini.” В следующей палате наоборот, лежащие на правой стороне получали oleum ricini, а на левой apis melifera (медоносная пчела в порошке). Других никаких назначений не делалось и, стало быть, больные выздоравливали или умирали помимо лечения, впрочем в последнем случае может быть под влиянием лечения. Когда я слышал от него этот рассказ, я спросил его: “ А правда ли, что мне говорили, что будто бы во время обхода палат Главным доктором в Военном госпитале всегда вперед него и сопровождавшей его свиты шли два унтера со швабрами, которые разметали дорогу, а позади свиты - другие два унтера тоже со швабрами, которые заметали дорогу?”. Он мне сказал, что это действительно так было раньше, но потом или вышло из употребления, или было запрещено, потому что проходившая свита не могла столько насорить, чтобы потребовалось вмешательство двух служителей для уничтожения сора. Но вообще полы в коридорах там отличались особенной чистотой и на нее обращалось сугубое внимание. Да ведь и теперешние начальники больниц (т.е. почетные опекуны, а по-прежнему -- деспоты больницы), особенно престарелые, обращают внимание главным образом на чистоту полов и на форменную одежду служащих, а на всякое нововведение смотрят недружелюбно, чем особенно отличается Ведомство императрицы Марии, самое консервативное из всех ведомств России. Высказывая это он как-то особенно улыбался, как бы давая знать, что дескать ты помни это и без моего соизволения не суйся со своими новшествами; другое дело будет, если позволю я. Ведь главный доктор - голова больницы, и всякий почин в ней принадлежит ему, и за то ему и честь и слава, а не помощникам его, этим мелким сошкам. Главное во всем - начальство. Сам он во всю свою жизнь не сделал ни одной операции и, как занимавшийся в Военном госпитале в терапевтическом отделении, стало быть, не посещал и хирургическое отделение и операционную комнату. Здесь, в Павловской больнице, он был в недружелюбных отношениях с моим предшественником Ник. Павл. Лебедевым и, конечно, тоже в операционной зале не бывал и, стало быть, с хирургией был знаком лишь понаслышке. А все же перед молодым врачом ему хотелось показаться знающим и вот однажды, когда в моем присутствии доктор В.А.Крылов (впоследствии Смоленский врачебный инспектор) должен был делать ампутацию голени и взял для этого большой скальпель, то вошедший в операционную Левенталь остановил его и прямо приказал делать ампутацию ножом. Даже и тут-то ему нужно было вмешаться и показать, что он начальство. Если же он брался, чтобы выгородить кого-нибудь из своих подчиненных, так выгораживал во всю, не жалея сил и топил других, чего не сделал бы в другое время. Примером этого может быть такой случай. При больнице тогда не было канализации и все нечистоты скоплялись в выгребных ямах, которые очищались по мере надобности, а так как туда же стекала и вода из бани, то, конечно, наполнялись ямы довольно скоро. Тогда обществу ассенизации платили по 2 рубля 50 копеек за вывоз полной пароконной бочки, что в год составляло довольно крупную сумму, которая увеличивалась благодаря мошенничеству и полному неразумению дела смотрителя больницы Лисогорского. Мошенничество состояло в том, что староста над рабочими Еремеев, бывший кавалерийский унтер-офицер, который должен был присутствовать при очистке и следить за тем, чтобы бочки наливались полные, допускал противное, т.е. они наполнялись до половины и тем увеличивалось число бочек, которое ставилось на счет конторе. Конечно это делалось за известную мзду, участником которой был и смотритель, конечно косвенным путем, т.е. тот же Еремеев давал смотрителю деньги в долг без надежды на возврат или когда-либо, а смотритель нуждался в деньгах постоянно. Подрядчик-ассенизатор облегчил свой труд еще тем, что предложил Еремееву, чтобы ему было разрешено конторой выливать нечистоты на одном из дворов больницы, где складывались дрова. Контора разрешила выливать за домом Главного доктора и вот, по временам больничные соседи начинали испытывать своими носами все прелести такого разрешения, жаловались в контору, не помогло; дело продолжалось по-прежнему; тогда они пожаловались по начальству, кажется Догорукову (генерал-губернатору), который назначил комиссию расследования этого дела. В комиссию вошли и начальник Врачебного управления Остроглазов и градоначальник Козлов, кто-то от городского управления и еще кто-то, всего человек шесть или семь. Конечно был тут и Левенталь, который давал объяснения по всему этому делу. Комиссия как приехала, так сразу отправилась в контору, а на место импровизированной свалки даже и не заглянула. Левенталь в своем объяснении дал вывод, что эта мера нисколько не вредит никому, лишь во время выливания нечистот воздух портится, а потом очищается ветром; жидкие части быстро всасываются песчаной почвой, а твердые скоро на ней высыхают и не разлагаются, стало быть, не вредят. Да и вообще-то все это дело не стоит того, чтоб беспокоить начальство и началось оно несомненно по доносу врачей Курбатова и Живописцева, которые имеют что-то против смотрителя. А я никогда и не думал доносить на кого-нибудь, да и Живописцев в этом деле был неповинен. Чем кончилась эта комиссия мне неизвестно, т.е. что она доложила Долгорукову, но только выливание нечистот на больничном дворе прекратилось. Месяца за два до своей смерти Левенталь прекратил свои выходы из больницы совершенно, но в отставку не подавал, так и умер состоя на службе. <.......> К другим лицам, не имевших к нему никакого отношения он был очень добр и внимателен и ему видимо доставляло удовольствие сделать для них что-нибудь приятное или помочь им в нужде их, если они обращались к нему, но при этом нужно было, чтобы они отметили в своей просьбе, что именно он, а не кто-нибудь другой, может помочь им, что именно от него зависит улучшить их положение. Жена его Софья Степановна была кажется немного старше его или одних с ним лет, но постоянно молодилась и любила амурные интрижки, почему и смотрела на них у чужих довольно снисходительно; вероятно она прощала их и своему супругу, когда они бывали у него раньше. Многие говорили и утверждали, что она была в близких отношениях с Владимиром Андреевичем Тихомировым, нашим же сослуживцем и заключали это из того, что Владимир Андреевич ежедневно после обеда со связкой книг или с мешком книг отправлялся к Левенталю, где и оставался до позднего времени. Сидеть дома один он не мог, музыкой он не занимался, картами тоже, на занятия бактериологией достаточно было и дневного времени. Он был женат, имел двух дочерей, но не жил с семьей. Жена его, говорили, будто бы легкомысленная особа, но верно ли это - не могу судить. Дочери обе были уже давно замужем за врачами, старшая из них была высокого роста, красива и хорошо сложена. Обе они тоже разошлись с мужьями. Брак Владимира Андреевича даже считался незаконным потому, что он и брат его Михаил Андреевич, впоследствии профессор Анатомии Киевского университета, были повенчаны на родных сестрах, но Михаил Андреевич венчался раньше. Какая цель была у законодателя запретить подобный брак? Что тут противного природе, когда два брата женятся на двух сестрах? Почему одному брату можно жениться, а другому нельзя? И это правило до того было сильно, что Владимир Андреевич вновь венчался со своей супругой уже по выходе в отставку из Павловской больницы, когда уже обе дочери успели разойтись со своими мужьями. Вот это-то одиночество, которое он должен был постоянно чувствовать, вероятно и влекло его к Левенталю, где оба супруга были к нему всегда любезны и ласковы. К 11 часам вечера он всегда возвращался домой , а ровно в 11 ложился спать, о чем мы узнавали по стуку брошенного сапога на пол, так как его спальня приходилась над моим кабинетом (мы жили в нижнем этаже, а он над нами, во втором). Мадам Левенталь была неравнодушна к автору этих записок даже через несколько десятков лет, когда сыну было лет 50, а ей между 70-80, “Я вижу, Иван Ильич, что Вы ко мне, как к женщине, не питаете никакого чувства”. Увы. Она была совершенно справедлива в этот раз. Хотелось мне сказать ей, что всякому овощу есть свое время, да так как-то с языка не шло. Сынок их Коля, довольно красивый и очень не глупый мальчик, был на юридическом факультете и, несмотря на протекцию Тихомирова как профессора, никак не мог кончить курс, хотя и принимался держать экзамен три раза: постоянно ему что-нибудь мешало экзаменоваться: то карты, в которые он играл превосходно, особенно в винт, то какая-нибудь поездка со знакомыми девицами, так все не ладилось и приготовиться поэтому не было времени. Покончивши совсем с университетом, он был в Курске податным инспектором и состоял в большой дружбе с тамошним Губернатором из прокуроров, тоже охотником повинтить. Это был их общий интерес. После смерти Левенталя, последовавшей 1-го марта 1884 года поступил Григорий Александрович Ураноссов, который просидел на этом, не своем месте тоже около 20 лет. <......> В какой именно гимназии он учился я точно сказать не могу, но думаю, что в I-й, как наиболее близкой к месту жи-тельства его отца; о пребывании в университете тоже не могу сказать ничего определенного, так как он сам об этом ничего не говорил, а от других я никого не знал, которые были его однокурсники; знаю только, что он окончил курс в начале 60-х годов и, стало быть, старше меня лет на 8-10. Тотчас по окончании курса он поступил в I-ую городскую больницу, в которой главным доктором был тогда Вас. Ал. Басов. Вид его, судя по портрету его того времени, был до того плюгавый, напоминавший плохого семинариста, что даже Басов поместил его в Контору, где он должен был составлять и переписывать бумаги, а потом уже переведен был в ординаторы. Зависть его на приобретение денег, на чины и ордена кажется была безграничной. В то время в должности старшего ординатора был в этой больнице Иван Степанович Клименков, пользовавшийся большой популярностью между жителями Рогожской части, населенной в то время все типами Островского; они почти боготворили его. Это было грубейшее из созданий, какое только можно вообразить из врачей, об его грубости упоминает даже автор той заметки (опять мне память изменяет) о последних днях жизни Гоголя, к которому он был призван как врач-практикант. Он привык обращаться с рогожскими купчиками того времени, называл их или “мать моя”, или “голубушка” и всегда, конечно, на ты. Выслушивал грудь без стетоскопа, а прямо прикладывая ухо к жирному телу и иногда без всякой надобности долгое время; а по окончании выслушивания - тыкал в разные места пальцем приговаривая: “Вишь ты, и тут у тебя затвердело, и тут завалило. Поди-ка расшевели всю эту музыку!”. А больная в ответ на это приговаривала: “Батюшка, Иван Степанович, Вы уж сделайте божескую милость, напишите мне такое лекарство, чтобы все это прошло. А уж мы не постоим в плате”. И плата следовала удвоенная. Собирал он таким образом немало и жил во всю мочь, как мог жить богатый и вполне некультурный человек: ел, пил, хорошо и всегда много, сытно, жирно, пьяно, держал своих лошадей и много прислуги, имел много одежды, кормил знакомых и сослуживцев обильными завтраками. К этому-то человеку с особенной завистью относился Григорий Ураноссов, называл его “благодетель Ив. Степанович”, а тот называл его не иначе, как Гриша или Гришка, похлопывал его по плечу, дарил ему свою поношенную одежду и даже калоши, что тот принимал с благодарностью. Видя такое заискивание к себе Ураноссова, Клименков давал ему иногда и практику, конечно в тех домах, в которых платили поменьше. Но наш Гриша был доволен и этим. Ему нужно было сделать себе имя и приобрести состояние. Он оставался до самых последних дней жизни Клименкова при его особе, так как тот уже совершенно умирающий, но еще продолжал принимать больных ради корысти; он принимал их даже накануне смерти, а умер он от рака гортани и дыхательного горла. Когда он не мог уже говорить от слабости, он указывал больному или больной на сидевшего тут же Ураноссова и давал понять больному, чтобы говорили по его указанию с Григорием Александровичем. Этим самым он указывал, что делает его своим наследником по практике. И, если бы Ураноссов обладал человеческими свойствами более деликатного свойства, чем те, которые были в нем, он конечно, получил бы многое от Клименкова по этому наследству. Но этого не произошло. На место Басова, вышедшего из больницы, перешел старший врач, т.е. помощник его Э.Э. Клин и Григорий Ураноссов постепенно подвигался по службе и через 12-15 лет стал самым старшим врачом, и тут во всю проявил свои свойства настолько, что сослуживцы, в том числе и деликатнейший из людей Э.Э.Клин, не знали как от него отделаться и готовы были всячески содействовать к тому, чтобы его назначили куда угодно, хотя бы губернатором, только бы взяли его них поскорее. С кем только не скандалил этот человек! С врачами постоянно, с сиделками, с служащими в Конторе. Ладил он только с больничными прачками, к которым благоволил и на чердаке больничном устраивал амурные свидания с ними, за что и получил название больничного кота. Бедному Клину приходилось постоянно примирять его с кем-нибудь. Не выдавался он своими способностями и во врачебном деле; он состоял сперва во все время своей службы в хирурги-ческом отделении, но до оперирования Клин его мало допускал, делал операции сам лично, а потому за ним и не значилось хирургической деятельности. Он, еще при Басове, сдал экзамен на доктора медицины и написал диссертацию о развитии костей, делал наблюдения над развитием кости у поросят, за что проф. гистологии А.И.Бабухин похвалил его на диспуте. Желая поставить себя на вид как ученого человека, он поехал на свой счет за границу, как будто бы с научной целью, как значилось в его бумагах и записано в формуляре, но доехал только до Вены и здесь застрял, проводя все время в беседах с дьячком тамошней православной церкви. Пробыл он там месяца два или три и что вынес из поездки знал лишь он один, а когда его сослуживцы спрашивали его о том, что нового в Вене, он обыкновенно отвечал: “Да там то же, что и у нас у Калужских ворот (базарная площадь - ближайшая к больнице), разве только то, что почище”. он думал, вероятно, этой поездкой поднять свой престиж между врачами, но было ясно, что это напрасная мечта: знали его достаточно и оценили по достоинству. С целью поступить в число членов хирургического общества он сделал в одном из заседаний его сообщение по статистике ампутаций; но оно, это сообщение было настолько не научно, что показало в авторе полное незнакомство с врачебной статистикой и незнанием дела, на что было ему и указано, а бывший в то время секретарь общества доктор Костарев так разнес его в своих возражениях по поводу доклада Ураноссова, что отбил у него надолго охоту выступать с такими докладами, а Комиссия дала о нем неблагоприятный для него отзыв, вследствие чего он и не попал в число членов общества. Он никогда не мог забыть этого обществу и всячески поносил его в частных беседах, особенно с глаза на глаз. Потом он пристроился в обществе Русских врачей и там тоже сделал сообщение о случае наложения швов на рану кишок, окончившемся благополучно, на основании чего решился написать, что он предлагает врачам в подобных случаях следовать его примеру, как будто до него этого никто не делал, не зашивались кишечные раны, забывал про то, что в каждом учебнике по оперативной хирургии трактовалось об этом много раз, даже составилась целая литература о кишечных швах, а потому, если он делал такое предложение, так это указывает на что-нибудь одно из двух, т.е. на то, что он не знает литературу рассматриваемого им вопроса, или думает одурачить членов общества, считая их такими же невеждами, как и он сам. Во всяком же случае он не делает открытия, с которым было бы связано его имя. Но все же он состоял членом общества Русских врачей, заведовал там хозяйственной частью, смотрел, чтобы масло было в лампадах и т.п., а до научного дела его не допускали. Там хорошо понимали, что он вполне может уподобиться собаке, лежащей на сене, которая и сама его не ест, и другим не дает. Сам он, конечно, ничего не украдет, но и другим не даст украсть. Вот такого-то человека и подготовил барон Бюллер к нам на должность Главного доктора, вопреки Тихомирову, которому обещал это место, а когда стало известно, что он представил Ураноссова, так как бы в оправдание своего обмана, говорил Тихомирову, что общественное мнение подсказало ему Ураноссова, и что он имеет большие преимущества перед всеми кандидатами, а именно то, что он статский советник, что он Доктор медицинских наук, на что Тихомиров ему ответил, что он тоже статский советник, а что касается до степени доктора медицины, так от него, Тихомирова, испрашивается даже голос при назначении этой степени ищущему ее докторанту. На что Бюллер мог ответить только лишь то, что он не знал этого раньше, а теперь уже поправить это невозможно. А мне сказал, что когда он был в последний раз в Петербурге, так фрейлина Ее Величества Озерова отзывалась ему обо мне в очень лестных для меня выражениях. Что он хотел этим сказать - черт его знает, разве только лишь то, что он знаком с придворными дамами. Я же был у него по его распоряжению, переданному мне Тихомировым. Но так ли, сяк ли, назначение Ураноссова состоялось и действительно отменить его теперь было невозможно. В скором времени он должен был вступить в отправление своих служебных обязанностей, но в это самое время он заболел возвратным тифом и пролежал в своей квартире недель пять-шесть, а по истечении этого времени как-то однажды в нашей больнице появилась бумага, извещавшая всех служащих о том, что в такой-то день и час новый Главный доктор явится в больницу. Всем интересно было увидать новое начальство и, конечно, все были на своих местах. До тех же пор должность Главного доктора со смерти Левенталя, исполнял И.П.Рещиков, как старший по службе. В назначенный час Ураноссов явился, и своим видом произвел невыгодное впечатление: небольшого роста, черноватый, худощавый, с манерами лавочника или чего-то подобного, с неприятным трескучим голосом, палкой-костылем в руке, как знаком того, что он еще не окреп после болезни; если прибавить еще то, что слухи об его деятельности опередили его прибытие, то ничего нет удивительного в том, что об нем составилось сразу невыгодное впечатление. Из швейцарской он прошел прямо в церковь, вход в которую был прямо из швейцарской. Церковь была отперта, вероятно по предварительному указанию от него и в ней был священник. Он дошел до середины церкви, благоговейно опустился на колени и около минуты молился, вероятно благодаря Бога за достижение им цели и затем знакомился с сослуживцами. Покончивши с этим представлением, он пригласил всех перейти в контору, в которой сел на председательское место, а остальные все сели на заранее поставленные стулья, стало быть, по его же распоряжению, ибо обычного числа находившихся там стульев не хватило бы на всех. Стало быть, и это было предусмотрено, обдумано. По занятии своего места, он вынул из бокового кармана фрака бумагу и, говоря, что он намерен прочесть нам план будущей своей деятельности, прочитал о том, что он намерен прежде всего ввести в больнице снабжение ее водой, для чего устроит водяной обоз из нескольких бочек, которые будут привозить воду из водозаборного бассейна на Серпуховской площади. Затем следовало описание этого обоза, и о жизни больницы, как врачебного учреждения - ни слова. Стало быть мы приобрели в его лице нового смотрителя, а не доктора. Если покойный Левенталь в последние годы не был не администратором, ни врачом, так Ураноссов был только хозяином-экономом. Вскоре после этого дня последовал переезд его на новое пепелище. Мадам Левенталь конечно съехала и квартира ремонтировалась. Ураноссов всем руководил при переезде и установке, а затем видал его сидящим в верхнем этаже, прибивающим шторки в комнате детей; их было у него уже несколько человек, кажется четверо и их не допускали к знакомству с другими детьми даже в саду, где они находились под бдительным надзором няньки, называвшей их детьми Главного, что остальные дети понимали, как “главные дети” и были недовольны этим. Такие отношения между детьми установились сразу и продолжались все время жизни Ураноссова в больнице. Жена его сделала визит к нам, одетая в дорогой изящный костюм, и Антонина Николаевна, конечно, должна была отдать ей визит. Этими визитами знакомство их, кажется, и окончилось. С другими сослуживцами не было и этого, кроме Живописцева, который и тут нашел возможным ловить рыбку и часто бывал у Ураноссова, и тот нередко навещал его. Это видно из тех бумаг, которые Живописцев сохранил у себя: они писались разновременно и впоследствии послужили документами против Ураноссова, стало быть, Живописцев в то время, когда писал эти бумаги знал хорошо, что они не совсем хорошего нравственного качества, но всю вину их происхождения сваливал на Ураноссова. Таковы например письма к Тихомирову, исправленные рукой Ураноссова, в которых предлагалось Тихомирову, как товарищу, не переходить на место старшего ординатора Рещикова, а выйти в отставку, чем он дал бы движение остальному врачебному персоналу по службе, а ему самому довольно и того, что он состоит профессором в университете. Делалось это с той целью, чтобы Живописцеву стать старшим ординатором, а на это место продвинуть Розанова, который был сверхштатный и, стало быть, не имел квартиры. Письма эти были коллективные, исправленные рукой Григория Александровича Ураноссова, набело переписанные неизвестной мне рукой и подписанных заинтересованными лицами. Тихомиров показывал их мне и не имел духа отмалчиваться на них, а отвечал. Обмен письмами произошел раза два или три. Компания не пощадила в них ничего, залезли в его формулярный список и указали ему на его отношение к жене, говоря, что он напрасно выдает себя женатым, что по службе он значится холостым, стало быть, тот брак, на который он ссылается - активный, свойственный всем людям, а не действительный. Вообще вся эта интрига была грязного свойства, недостойная врачей. Затем Ураноссов начал преследовать воровство в больнице и первым делом не дозволил ассенизаторам выливать содержимое из их бочек на дровяном дворе, а вывозить с больничных дворов куда следует, и чтобы уличить старосту Еремеева в том, что он допускает наливать неполные бочки, сам лично с каким-то поплавком исследовал содержимое каждой бочки, останавливая ее в воротах на улицу и почти в каждой из них находил лишь половину, что и записывал к учету. Заведены были особые клейма, которое накладывалось на каждую казенную вещь; повешены были в каждой палате особые таблички с обозначением всего того казенного имущества, которое в ней находилось, например, столько-то столов таких-то, столько-то стульев таких-то, икона такого-то, в столько-то вершков длиной и шириной, в окладе или без него. Переписано было все и в церкви, где он проявил себя знатоком названий церковных предметов. Всему составлен полный список (инвентарь). Имущество в больнице оказалось огромное, но не дорогое, и многие вещи были признаны негодными к употреблению, особенно в Хирургическом отделении, где были инструменты скорее похожие на орудия пытки, чем на инструменты для операций на живом человеке. Их следовало бы держать в каком-нибудь музеуме, да и вообще они имели значение лишь историческое, как, например, целая снасть блоков, соединенных тонким канатом, назначенная для вправления вывихов, для чего эта штуковина прикреплялась за железный крюк, вбитый в подоконник в операционной комнате. Такая же была и электрическая машина с огромным магнитом, применять которую не умел даже и ординатор Репман - специалист по электротерапии. Все это хранилось в шкафах, заносилось в ежегодно составляемый инвентарь без замечания о том - годится это орудие на что-нибудь или нет. Когда приезжал контролер проверять имущество в хирургическое отделение, я конечно представил ему все эти старинные вещи и сказал, что они имеют лишь историческое значение, а наиболее необходимых современных инструментов у нас нет, он записал эти слова в свой протокол, который был представлен Опекунскому совету, и там обратили старцы-опекуны свое внимание на это и указали опекуну-заведующему больницей на это заявление контролера, а тот в свою очередь указал Главному доктору, и “пошла писать губерния”. Ведь это было официальное указание на то, что в современной больнице недостаточно много современного в хирургическом кабинете, что там держаться инструменты, свойственные застеночной пытке, а не для лечения больных. Главное то, что это записано контролером, который не зависит от опекунов и все то, что он находит неправильным в ведении хозяйства в больнице - он сообщит в Петербург и там узнают, что в Московской больнице далеко не все благополучно. Чтобы выпутаться из такого поло-жения, нашли возможным достать такие-то деньги, отпустили их Ураноссову на обзаведение новыми инструментами. Ну и накупил же этот такого добра, что лучше прежнего не стало. Он купил, между прочим, такие долота, какими можно забивать паклю между бревнами, а не выдалбливать большие участки костей (при резекциях); но были куплены и хорошие вещи, которые остались там и после меня. Несмотря на то, что Ураноссов усердно добивался частной практики - это ему не повезло и если он имел от нее что-нибудь в I-й Городской больнице, так с переездом в Павловскую все это пропало, несмотря на то, что он рассылал в газеты особые объявления, напечатанные в типографии Нюренберга в Газетном переулке. Эти объявления рассылались лишь московским подписчикам газет, особенно Московского листка (бульварная и рядская газета Пастухова) и притом в Замоскворечье и в Рогожской части. Думаю, что в лечебнице общества Русских врачей дела его с практикой были не лучше. В первое время, когда наши отношения были вполне приличны и корректны, я пригласил его для консультации к одной больной, у которой была empyaema в левой стороне. Это была дочь Судебного пристава при окружном суде Поспелова, девица лет 12-13. Присутствие гноя у нее было доказано с несомненностью доктором И.С.Корсаковым, который и указал родителям больной на меня, как на хирурга, который может сделать операцию, а для содействия пригласил Ураноссова. И что же? Он приехал, наскоро осмотрел больную, когда уже все было готово к операции, и сказал отцу больной, что он находит не нужным делать операцию, что больная не вынесет ее и под ножом умрет, а затем уехал. Что мне было делать? Уговорил отца больной, чтобы он разрешил сделать хотя бы вытягивание гноя аспиратором; тот согласился, и я вытянул совершенно безболезненно для пациентки, аппаратом Потена, две бутылки густого гноя. После чего тот час же больная стала дышать довольно легко и сказала, что ей совсем хорошо. Это так обрадовало ее отца, что он сказал мне, что все, что я прикажу, он сделает с полным доверием ко мне. Я ему объяснил, что та операция, которая сделана его дочери сейчас - есть лишь временная мера, что для выздоровления необходимо сделать другую, разрез между ребрами, чтобы выпустить весь гной, а для этого больную нужно поместить в больницу. Отец это исполнил, поместил ее в Павловскую больницу, где на следующий же день выпущено у больной через межреберный разрез несколько бутылок гноя, после чего она быстро стала поправляться, скоро выздоровела и вышла из больницы, а лет через 5-6 вышла замуж. Ураноссов вздумал нас поучить, как нужно делать ампутации и взялся однажды за производство ампутации голени. Но, Боже мой, как он делал ее. И суетился, и кипятился, и кричал, хватался то зато, то за другое. Об асептике и помина не было. Справиться с остановкой кровотечения он долго не мог и, наконец воскликнул: “Да помоги же мне!” Присутствовавший при этом доктор С.Д.Городецкий не мог удержаться и заметил: “Да кто же так делает ампутацию? Ведь это позор!”. Эти слова сразу охолодили Ураноссова; он моментально успокоился, а по окончании операции, когда больной был унесен из зала, заметил Городецкому, что во время оперирования оператор находится в ненормально возбужденном состоянии и ему извинительно, если он скажет или сделает что-нибудь не так, как бы следовало. После этого Городецкий перестал бывать в больнице. Можно было бы привести много примеров, из которых видно, что Ураноссов как хирург стоял очень низко, ниже всякой критики. Он быстро терялся и растерявшись, делал нелепости. Однажды нужно было зашить свищ на дыхательном горле, оставшийся как след бывшей раны (попытка к самоубийству). Я решил так: оживить края свища, снявши с них рубец, а если возможно будет, отсепаровать его и завернуть внутрь, сшить завернутые части между собой, а потом надвинуть на рану отсепарованную здоровую кожу и закрепить ее на месте. Для того, чтобы не попадала кровь в дыхательное горло, я затомпонировал отверстие ватой и тампон прикрепил на прочную шелковую петлю, которую Ураноссов должен был удерживать на пальце. Все шло хорошо, но потом Ураноссов как-то рассеялся, петля у него соскочила с пальца, больной глубоко вздохнул и втянул в себя тампон вместе с петлей; дыхание остановилось. Мне удалось через рану пощекотать дыхательное горло больному и он сильно кашлянул, причем выбросил через рот и тампон с петлей. Ураноссова передо мной не было (мы должны были стоять друг против друга по обе стороны больного), где же он там? Он просто-напросто испугался, когда увидал свою оплошность, и, когда больной начал хрипеть и синеть вдохнувши в себя тампон, с перепуга присел на пол за операционным столом, где я не мог его видеть, так как стоял по другую сторону стола. Чего он испугался: того ли, что я закричу на него или того, что больной задыхается - не знаю; знаю только, что положение его было комичное. Еще однажды он говорит мне, что в женском отделении есть больная, которой нужно выпустить плевратический эксудат. Зная хорошо каков он диагност, я отправился в ту палату, в которой лежит указанная им больная, исследовал ее грудь и не нашел никаких указаний на выпот, а тем более гнойный, о чем и сообщил ему на следующий день. Но друг его ординатор Живописцев убеждает его, что эксудат есть, и притом гнойный, и вот они вместе делают межреберный разрез и к ужасу своему выпускают около столовой ложки серозного эксудата, т.е. почти нормальное количество жидкости. Конфуз был полный. Если бы я стал перечислять все его ошибки в диагностике, пришлось бы написать целую книгу, но у меня нет такой цели; могу сказать лишь то, что я не помню, чтобы его распознавание было основательно, а равно и лечение целесообразное. Спорить с ним о чем-либо научном не было возможности: он нес во время спора такую чепуху, что просто становилось стыдно за него самого, что говорит это врач, да еще Главный доктор, который должен быть как бы консультант для остальных врачей больницы. Его понятие о дезинфекции и безгнилостном способе или методе лечения ран были самые невероятные, а применение этого метода на деле ничем не отличалось от прежнего; он никогда не мыл руки при тех операциях, которые делал в первое время, и всегда для чего-то лазил пальцем в рану, а затем лишь обтирал палец об мокрое полотенце. Взять немытый инструмент, поднятый с пола - дело обычное. При споре с кем-нибудь, если он не соглашался с против-ником, он обыкновенно говорил: “Ну, нет брат, шалишь, это дело не модель!”, причем как-то приседал и поглаживал себя в паховых складках. Это была его обычная манера, от которой он не отставал даже и при разговоре с женщинами, являвшимися к нему как к Главному доктору по делам в больницу, заменяя лишь слово “брат “ словом “голубушка моя”, чем немало смущал некоторых, не привыкших к подобной фамильярности. А он, вероятно, думал, что он необычайно любезен и корректен. Врал он своему начальству невероятно. В этом отношении помню один случай, заставивший удивиться всех присут-ствовавших. Дело было так. Почетный опекун князь Н.П.Трубецкой, порядочная развалина, спросил его, во время обхода больницы: а что у нас в больнице делают носы? Как же Ваше Сиятельство, делают. А кто же этим занимается? Живописцев и Медведев. И это было сказано с такой уверенностью, как будто бы это было дело самое обычное, вроде прорезания нарыва. А названные им лица не только никогда не делали эту операцию, но даже и не присутствовали при ее производстве другими. Как же он морочил своего Трубецкого наедине, это было известно только ему одному. Сам Н.П. Трубецкой, бывший Калужский Вице-губернатор, человек очень недалекий верил ему во всем на слово, считал его гениальным человеком и постоянно представлял его к наградам, почему и оказалось, что у него было три звезды, хотя по положению он имел право получить лишь одну. Но остальные две ему даны по особому ходатайству почетного опекуна в воздаяние особых, выдающихся заслуг Ураноссова. К числу особых заслуг его относилась и постройка бараков, в которые предполагалось помещать воспитанниц Московских институтов и кормилиц из Воспитательного дома и говорилось по начальству, что эти бараки - последнее слово науки, что в устройстве их Ураноссов показал себя на своем месте вполне достойным всякой похвалы. Но когда они были устроены и открыты, приехавший из Петербурга Медицинский инспектор Павлов нашел их никуда негодными и во всяком случае не достигающими цели, а дезинфекционную камеру, за которую заплатили несколько тысяч рублей по случаю, советовал даже продать на слом, как машину ни на что более не годную. Дружба его с Живописцевым и Медведевым продолжалась не долго; они скоро перестали показываться, а потом она и совсем охладела и дошло до того, что они стали врагами, что с особенной яркостью выразилось во время инспекторского приезда Сутугина. Он приехал по вызову Ураноссова для разбора некоторых недоумений, возникших у врачей с одной стороны и Ураноссова с другой. Сутугин накануне просил всех врачей в этот день не расходиться и, когда приехал, обошел конечно больницу со всей свитой, а затем направился в конференц-зал и пригласил всех занять место вокруг стола, а обращаясь к Ураноссову, сказал:”Вы, Григорий Александрович, оставьте нам беседовать одних”. Нужно было видеть, как исказилось лицо Гр.Александровича. Но все же пришлось удалиться и переждать горькие минуты. Когда дверь за ним закрылась, Сутугин обратился к нам всем вообще и просил сообщить ему, что у нас тут произошло. На это предложение каждый рассказал все, что у него накипело в душе и чем он был обижен Ураноссовым; остался нем только Н.М.Херасков, тоже один из друзей Ураноссова. Сутугин все выслушал довольно внимательно и в заклю-чение всего сказал нам, что он находит необходимым сообщить все Ураноссову и высказать ему неблаговидность его поведения и предложил кому-нибудь позвать его в конференц-зал. Когда Ураноссов вошел, на нем, как говорится “лица не было”. Сутугин посадил его рядом с собой и смотря ему в упор в лицо, начал отчитывать его, повторяя то, что слышал от нас и не называя наших фамилий, говорил “Вы сделали вот то-то и то-то, Вы вели себя вот так-то и так-то”. Ураноссов молчал, а когда Сутугин окончил, он, бледный, с трясущимися губами начал так: “Прошу Вас, Вас.Вас. простите меня Христа ради. Никогда не буду больше так делать”. И затем, обращаясь к нам тоже повторил и Вас всех прошу, простите меня Христа ради, никогда не буду так делать”. Сутугин, слушая его глядел на него взглядом, полным омерзения, а тот все повторял свое - “простите меня”, очевидно признавая себя виновным. Когда я услыхал из уст его призыв к прощению, я не поверил своим ушам и спросил своего соседа, да что он такое говорит? А сосед довольно громко ответил мне: “Разве Вы не слышите - прощения просит”. Это был, кажется, единственный случай, в котором начальник каялся в своем поведении со служащими и просил у них прощения Христа ради. Факт небывалый и ни в какой летописи не упоминаемый. факт исключительный, единственный, а для Главного доктора особенно характерный. Третьим по порядку Главным доктором при мне был Александр Александрович Полиевков. До поступления его к нам я не имел о нем никакого понятия и даже не слыхал его имени. Он служил ординатором при Детской клинике, которой заведовал в то время Нил Федорович Филатов, а кафедру детских болезней занимал Николай Сергеевич Корсаков. Филатов был такой человек, что ему было решительно все равно, кто бы ни был его ординатором, это был человек не от мира сего. Покойный И.М.Сеченов в своих записках отзывается об нем как об одном из лучших профессоров факультета его времени, и это совершенно справедливо, но и Филатов все же держал его, что называется в черном теле, не видя в нем ничего выдающегося и способного выдвинуться из среднего уровня; Корсаков же был более дальновидным и хорошо, по-видимому, понимал и верно оценивал Александра Александровича Полиевктова и потому, как только занял после смерти Филатова клинику, так тотчас же под благовидным предлогом устранил из нее Полиевктова, а в это время как раз открылась у нас вакансия Главного доктора. На нее то и были устремлены все мортиры его. Во время службы Полиевктова в клинике у него были неприятные отношения со всеми: не любили его врачи, не любили студенты, хотя он и заискивал перед ними, не любили и больные и служащие; словом он был неприятен всем. Покойный мой друг П.И.Дьяконов говорил мне впоследствии, что Полиевктов, с целью поправить свои материальные дела, очень добивался получить место Советника университетского Правления, и что дело его шло на лад, но Дьяконов помешал ему в этом. Вышло как-то там, что за кандидата на это место должны были дать свое согласие директоры клиник все вообще. Дьяконов, как директор Госпитальной Хирургической клиники не дал своей подписи и даже отказал в ней; ему последовали и другие директоры (не помню, кто именно), и дело это сорвалось. А если бы оно устроилось, то мы увидели бы в лице Полиевктова второго Кузьмина, но только половчее. Дело в том, что это место очень выгодное: кроме жалованья не меньше профессорского, занимающему эту должность полагается еще очень хорошая казенная квартира, конечно с отоплением и с освещением; но что самое важное, еще то, что Советник Правления, или сидник, заведует всей хозяйственной частью клиник, и выдает деньги и жалованье всем низшим служащим, а также всем поставщикам. Вот это-то последнее обстоятельство и было соблазнительно, и вот почему. В то время деньги выдавались из университетского казначейства на руки сиднику по большей части сериями (особый вид обязательства Государственного казначейства), на которых отмечено было, что такая серия дает 2 руб.16 коп. дохода в год, т.е. 4 руб. 32 коп. роста на сто, потому что сама серия стоила 50 рублей. Стало быть, сама серия (50руб.), давала каждый месяц 18 коп. Когда являлся поставщик за получением денег, обыкновенно на несколько тысяч рублей, ему предлагалось получить сериями, но с удержанием процентов месяца за три вперед, что составляло 54 коп. на 50 руб. или 1 руб. 8 коп. на сто. Поставщику деньги нужны для немедленной расплаты, и он волей-неволей соглашается на такую сделку и эти 1 руб. 8 коп. остаются в руках сидника, что при огромных суммах, иногда превышающих сотни тысяч рублей, например, строительным подрядчикам, поставщикам дров, мяса, хлеба, керосина и проч. (составляло очень кругленькую сумму, на которую точили зубки очень многие, в том числе и Полиевктов, а Дьяконов узнал как-то стороной об этом и не пожелал брать грех на свою душу, хотя была возможность нажиться таким некрасивым путем своему собрату-врачу, да еще врачу состоявшему на службе при университетских клиниках. Полиевктов хорошо знал, почему это место ушло от него, и не мог простить Дьяконову его отказ подписаться, а Корсакову только и нужно было иметь предлог, чтобы отделаться от такого человека и он отделался. Другой мой приятель, Петр Петрович Отрадинский, в светлые минуты своего здоровья, говорил мне, что он достаточно знает Полиевктова по Окружному суду, где им вместе пришлось быть присяжными заседателями, и всегда говорил, что этот человек далеко пойдет по службе, и он действительно не стеснялся ничем и никем, лишь бы достигнуть своей цели, т.е. нажить возможно больше каким бы то ни было путем, кроме уголовного, что бы можно было жить в свое удовольствие. Он был женат на известной московской красавице - Орешниковой, у которой было 60 тыс. руб.. Он как-то воспользовался этими деньгами и начал проживать их. А когда все прожил, развелся с женой и женился на богатой бездетной вдове из купчих, уже преклонного возраста, которая прельстилась его видной фигурой, сравнительно молодым возрастом, дебелостью и хорошим официальным положением, и вышла за него замуж, принеся с собой уже не десятки тысяч, а сотни, а может быть и за миллион. Это была вдова купчиха Давыдова. Развод его с женой и вступление во второй брак совершились уже через несколько лет по поступлении его в Павловскую больницу. Каким же путем он попал к нам, если для замещения этой должности нужны были особые заслуги? Дело тут упростилось до чрезвычайности. Покойный Медицинский инспектор Артемий Михайлович Айканов, бывший в Москве в один из приездов вместе с Главным управляющим Протасовым Бахметьевым, говорил мне, в присутствии самого Полиевктова, что когда назначена была комиссия для оценки трудов желающих занять место главного доктора в Павловской больнице, то членам комиссии сказано было, что между прошениями, поданными на это место, два принадлежали служащим в этой больнице, и чтобы комиссия имела ввиду, что какими бы достоинствами эти лица не отличались, но они должны быть поставлены последними в списке кандидатов на это место. Вот и причина, говорил Айканов, почему выставлен был Полиевктов первым; да к тому же посодействовал и кн. Кудашев, который хлопотал за Александра Александровича. Вообще Айканов не стеснялся и был очень откровенен. Все это говорил мне и сам Айканов в присутствии Полиевктова. Ну, а тот слушал и только улыбался с веселой миной и не малейшего слова в защиту себя не сказал. Потом я стал расспрашивать, да кто же это такой кн. Кудашев? И оказалось, что этот Кудашев когда-то жил в Москве, был богатым человеком и потом перебрался в Петербург, где служил в каком-то придворном звании на видном месте и имел, конечно, родственников и чиновние связи, а во время жития его в Москве. Полиевктов давал уроки кому-то из его детей. Вот и было, стало быть, знакомство. Сам же Полиевктов по происхождению был чиновничий сын из Вологодской губернии.
Знакомство с Практической Академией и семейством Живаго Я раньше говорил, что служа в клиниках, я познакомился со своим сослуживцем П.П.Отрадинским, который был ординатором в Пропедевтической клинике у проф. Черинова. Через Отрадинского я познакомился и со всей его семьей, над которой лежало что-то роковое: они все, т.е. члены семьи были не вполне нормальные и склонны к каким-то психическим заболеваниям; потом уже оказалось, что все это зависело от того, что мать их была эпилептичка, но они все это скрывали от своих знакомых и я , стоявший к этой семье довольно близко, узнал об этом обстоятельстве лишь после смерти самой виновницы этого зла. Служа в клинике, П.П.Отрадинский был в то же время и врачом в Практической Академии Коммерческих наук, куда нередко приглашал меня в качестве консультанта по хирургии, а иногда, когда ему нездоровилось или он должен был отлучиться из Москвы, я вполне заменял его. Здесь-то и познакомился я с инспектором Академии Ив. Мих.Живаго, который, собственно, вел все дело Академии, хотя значилось, что она управляется Советом, председательствовал в котором Алексей Иванович Абрикосов - фабрикант-кондитер и чайный торговец. Все предложения Живаго, вносимые им в Совет, принимались там не только без обсуждения или возражения, а, напротив, с благодарностью. Он умел ладить с крупными купцами московскими, между которыми немало было образованных людей, окончивших или русские, или иностранные университеты, а детям своим они, конечно, старались дать образование. Ведь из Московского купечества вышли и Вас. Боткин, написавший книгу; “Письма об Испании”, брат его Сергей Петрович - профессор Военно-Медицинской Академии, профессор физики Столетов, бывший Военный министр Милютин, проведший закон о всеобщей военной службе и брат его, проведший крестьянскую реформу, уничтоживший крепостное право. Все они были купцы и притом московские, а в последние годы они принялись за крупные предприятия: устраивали больницы, богадельни на свой счет (Бахрушины), дома дешевых квартир (на Серпуховской улице), богадельня Третьякова, ночлежные дома Ермакова и его же богадельня и даже знаменитая на всю Россию картинная галерея собрана купцом Третьяковым и подарена городу. Московский купеческий банк учрежден купцом Ив.Артем.Лялиным, - он же фабрикант бумагопрядильных изделий. Словом, московские коммерсанты стояли на высоте благотворения и просвещения. Конечно, бывали и между ними своего рода недоумки, но такие типы какие описаны Островским, в Москве уже не встречались, вывелись в то время, про которое я пишу. Практическая Академия давала солидное образование своим питомцам, недаром во главе ее стоял известный педагог Ив.Мих.Живаго. Он был уже немолод, когда я познакомился с ним, очень умный, деликатный, всегда ровный в обращении с людьми, в том числе и с воспитанниками и сослуживцами, конечно, как служащий во главе учебного заведения, монархист, может быть и не убежденный, потому что об этом предмете никогда разговор у нас не возникал; перед своим начальством, т.е. Генерал-губернатором кн. Вл.Андр.Долгоруким, он не унижался, но льстил ему и кадил ужасно, за то и Долгоруков относился к нему очень внимательно и по его приглашению, конечно с ведома Совета, являлся на академический акт 17 декабря и по окончании обедни и акта оставался на завтрак, по изысканности и обилию равнявшийся очень хорошему обеду. Я бывал на этих завтраках несколько раз и могу сказать, что ел с большим аппетитом и запивал хорошим венгерским вином - бутылочку которого ставили передо мной после того, как я сказал, что предпочитаю его всем другим винам. За этими обедами-завтраками Ив.Мих.Живаго особенно отличался в своем красноречии перед Долгоруковым, восхвалял его добрые и за-душевные отношения к Академии и к Совету ее, а на деле все его отношения сводились к тому, что он ни во что не вмешивался в советских делах, да и не мог вмешиваться, потому что не знал их, так как они касались чисто внутренней жизни школы, ее домашних дел. Конечно, Долгорукову предоставлялось выдавать ученикам награды: похвальные листы и книги. Выдавали их, что-то очень много, не так, как в гимназиях. Особенностью преподавания и занятий учеников-пансионеров было то, что все они к концу пребывания в школе были хорошо знакомы с новыми языками: французским, немецким и свободно говорили и писали на этих языках. Конечно в этом отношении много помогало делу то, что помощники инспектора были француз, немец и англичанин, на обязанности которых лежало разго-варивать на своем языке с воспитанниками, а инспектор должен был следить за тем, чтобы это делалось неуклонно. Жена Ивана Михайловича, Софья Васильевна, принимала самое живое участие в жизни Академии, интересовалась всем тем, что в ней происходило, знала всех питомцев ее и в лицо и по фамилии, а когда кто-нибудь заболевал из них - навещала его в больнице и следила за тем, чтобы все назначения врача исполнялись в точности. Она была очень умна, образована, набожна, говорила чуть ли не на всех европейских языках и много читала, собеседница она была незаменимая и в довершение всего очень дурна собой, и с пороком сердца, от которого умерла во время кормления кур. Она имела большое влияние на мужа, хотя и скрывала это, и будто бы подчинялась ему. Одета она была всегда в такое платье, которым напоминала какую-нибудь титулярную советницу из губернского города Волги. Воспитанием детей она занималась сама до школьного возраста, и когда я узнал ее, старший сын ее был уже в университете и готовился быть впоследствии профессором по Юридическому факультету. Желание его сбылось, и скоро по окончании курса он занял кафедру в Томском университете, а дочь ее (единственная) Надежда Ивановна начала заниматься рисованием и потом училась этому делу в Мюнхене. В домашней экономической жизни С.В. ничего не понимала, но много надеялась на себя, например, получивши неожиданно наследство более чем в 100 тыс. руб. и не имея никакого понятия о сельском хозяйстве, она купила за дорогую цену имение в Александровском уезде Тульской губернии, и, когда оно порядочно тряхнуло ее карманом, она увидала, что вести хозяйство не так просто, как это казалось с первого раза и поспешила продать его, а вместо того купила дом в Москве на Спиридоновке, где и умерла внезапно. Бывая у них, конечно, как врач Академии, я познакомился там с одним московским богачом, банкиром Андреем Гавриловичем Чижовым, которому всецело одному принадлежала банкирская контора на Никольской улице и громадное здание, так называемое “Чижовское подворье”. Ему же принадлежал очень большой дом, довольно доходный, на Страстной площади против Страстного монастыря и имение по Николаевской железной дороге при станции Подсолнечной. Чижовы происходили из крестьян Владимирской или Костромской губернии и нажили состояние нечистым путем, т.е. делали фальшивую монету и сами печатали кредитные билеты. Мнение это держалось за ними стойко. Здесь же познакомился я и с режиссером Малого театра Алексеем Михайловичем Кондратьевым, близким человеком к семейству Чижовых, который по окончании службы в театре, переселился к Чижовым в Подсолнечное и там окончил свои дни. Про него говорили, что когда он был актером, он умел особенно хорошо правдоподобно передавать душевные состояния изображаемого лица. Но я не видал его ни разу ни в какой роли и не помню его как актера. Глава семьи Чижовых, Андрей Гаврилович, был суровый, почти нелюдимый человек, относившийся с большим недоверием к людям, придавал особенно большое значение деньгам и видел в них рычаг, двигающий всем. Жизнь его вся вертелась вокруг денег и вся ушла на приобретение их, и раз они попадали к нему, у него и оставались, а не шли на какое-нибудь дело. Состояние его было огромное. Один дом на Никольской улице, “Чижовское подворье”, давал доходы несколько сот тысяч в год. Сын старика Чижова окончил курс по юридическому факультету и был уже товарищем прокурора Московского Окружного суда, когда старику пришла мысль посадить его в контору и он предложил сыну оставить службу, тот, видя, что со стариком ничего не поделаешь, согласился, вышел в отставку, и засел за контору для незнакомого ему дела и повел его успешно. Он унаследовал все состояние отца, жил одиноко, был холост и занимался лишь конторой, а когда заболел саркомой на шее и не мог выходить из дома, то, любя человеческое общество и желая знать все, что делалось новое, он, ради развлечения, пригласил к себе молодого Отрадинского (Владимира Петровича) на службу, которая состояла в том, что он (Отрадинский) должен был являться к нему ежедневно без опозданий к завтраку и обеду, говорить с ним, рассказывать ему городские новости и получать за это определенное жалованье - кажется 50 или 60 рублей в месяц, а после смерти его получил по завещанию 15000 рублей из миллионного состояния, которое не знаю куда пошло. Кондратьев умер раньше него, и разузнать наверное не было возможности. Много было разных лиц, с которыми приходилось встречаться на завтраках в Академии, но многих из них не припомню, а помню лишь хорошо Алексея Ивановича Абрикосова, о котором уже говорил раньше. Этот Абрикосов замечателен между прочим еще и тем, что он был родоначальником громадной семьи, и, когда праздновалась его золотая свадьба, так собрались его дети и внучата и правнучата, всего 104 человека. Ввиду его многосемейности Московское Купеческое общество освободило его от всех податей, которые оно могло наложить на своих сочленов. |
||
на главную страницу to the head page