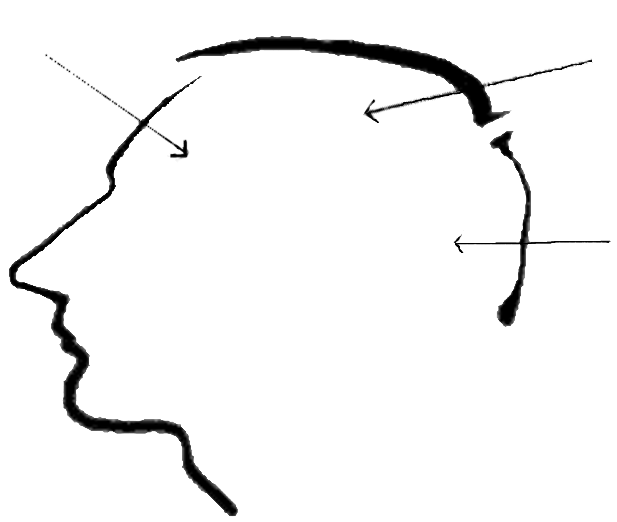 Главная страница
- Леонид Кипарисов. Живопись,
проекты.
Head Page - Leonid
Kiparissov. Painting.
Главная страница
- Леонид Кипарисов. Живопись,
проекты.
Head Page - Leonid
Kiparissov. Painting. |
 "Воспоминания Ивана Ильича
Курбатова доктора медицины 1846-1923"
"Воспоминания Ивана Ильича
Курбатова доктора медицины 1846-1923" |
||
 |
Глава 7. Больничные учреждения на фабрике Т-ва Даниловской мануфактуры. 1883 - 1908 К самовозвеличиванию немцев . Московская полиция . К событию на Ходынском поле во время коронации Николая II .
|
 |
|
Теперь пора поговорить о моей еще службе при фабрике Даниловской мануфактуры. Она началась не сразу, а постепенно шло дело к занятию там места. Я должен сказать, что я получил это место при содействии доктора Николая Яковлевича Шкотт, с которым хорошо познакомился, а впоследствии и сошелся на лекциях Ивана Федоровича Клейна. Этот Шкотт, специалист по горловым, ушным и носовым болезням, был знаком и даже в родстве со многими коммерсантами иностранцами, живущими в Москве, знаком и с высшими административными лицами города и вообще пользовался большой известностью, человек довольно образованный, вполне просвещенный, он был знаком и с Боткиным, а стало быть, и с Щукиным, который был в то время директором распорядителем в Даниловской мануфактуре. Подал мне мысль о занятии места при фабрике наш сослуживец д-р Н.П.Рещиков, обещав содействовать этому, но ничего не сделал, да и не мог сделать по своему положению. А все дело решил случай. Как то однажды я говорил о своем желании занять там место Шкотту и он обещал узнать, как пробраться туда, погово-рить с Щукиным, и действительно поговорил, но место было занято и довольно плотно доктором Ал.Як.Туген-гольдтом (из евреев), домашним врачом К.Т.Солдатенкова - одного из директоров Правления Мануфактуры. В скором времени один за другим на фабрике было два несчастных случая хирурги-ческого свойства, с которыми Тугенгольдт не справился, и это дало повод к тому, чтобы в скором времени пригласить другого врача, который бывал бы чаще на фабрике; а не раз или два в неделю, как делал это Тугендгольдт. Щукин сообщил об этом Шкотту, а этот последний написал мне и советовал, не откладывая дела в долгий ящик, познако-миться с Щукиным, что я и сделал, т.е. на другой же день после письма Шкотта поехал к Щукину, живущему тогда в доме Воейковой против церкви Христа Спасителя в особой большой квартире. Я застал его дома, только что вернувшимся с Нижегородской ярмарки, и объяснил ему цель своего визита. Он просил оставить у него мой адрес, говоря, что это дело не может быть решено сейчас же, но что оно будет решено согласно моему желанию.К осени, или даже зимой опять было два несчастных случая - тяжелые ранения во время работы на фабрике: одного больного положили в Городскую больницу, где он и умер, а другого в Павловскую больницу в мое отделение, где он скоро выздоровел. Это был толчок к тому, чтобы Щукин вспомнил обо мне и пригласил меня к себе для переговоров на Ильинку в Правление. Я приехал, но переговоры наши были довольно коротки, так как я не согласился на те условия, которые он предложил, а именно: 50 рублей в месяц за 4-5 приездов в неделю в тамошнюю больницу, причем принимать в приемной всех вообще, обращающихся из фабричного населения, а за посещение больных в их квартирах, они должны уплачивать за визит по 3 рубля, или, если не уплатят, то я должен представлять в контору счет по истечении месяца с обозначением, у кого именно и сколько раз я был и контора уплатит мне по моему счету. Я не мог согласиться на это потому, что это значило бы, что я как бы беру на откуп все население фабрики, могущее платить мне, а во 2-х представление счета может породить недоразумение о количестве визитов, например, я напишу, что я был у Х пять раз, а сам Х считает лишь четыре. Я буду настаивать на моем, а Х на своем. Кто же решит и на каких данных? Кроме того я считаю цифру в 50 рублей в месяц недостаточной уже потому, что один извозчик обойдется не менее 40 рублей за проезд в оба конца и ожидание меня там. Поэтому я желаю получать в месяц не менее 100 рублей и чтобы мной и посе-щаемыми на дому больными не было бы никаких обязательных отношений. На следующий день я получил бумагу официальную, в которой значилось, что я буду посещать фабричную больницу не менее 4-5 раз в неделю, оставаться там столько, сколько окажется нужным, оказывать помощь всем, туда обращающимся и получать за это 110 рублей в месяц, т.е. 1320 рублей в год. Эти условия были подписаны мной 19-го декабря 1883г., в день рождения Мити*, а с I-го января 1884 года я состоял уже на службе. Какова же была там больница и какие были в ней порядки? Теперь кажется это невероятным, а между тем то, что я сейчас напишу, - было действительно, с подлинным верно. Больница была построена больничным архитектором на отлете от остальных построек фабрики и вдалеке от жилых помещений. Это, конечно, хорошо потому, что вся усадьба фаб-рики не особенно велика. Самое здание больницы было каменное, с полуподвальным этажом, в котором половина была занята квартирой фельдшера, а в другой - полутемная, хотя и большая кухня и для фельдшера и для больницы и другая часть, около 1/4 всего нижнего этажа - помещение для заразных больных, куда был особый ход со двора. Туда не было водопровода, не было особого клозета и, стало быть, больные для естественной надобности должны были выползать наружу сами, собственными силами и делать то, за чем выползали где-нибудь тут же поблизости. Ванны в этом этаже не было. Прислуги на всю больницу было лишь две: одна женщина, она же и кухарка и прачка и сиделка. Как она могла справляться со своим делом - непонятно. Выходило что-нибудь одно, что она либо около больных, либо в кухне готовит пищу, либо стирает белье, и если около больных, то как она может быть в одно и то же время в двух этажах. Мой предшественник, по-видимому, не замечал этого, так как никогда не служил в больнице, а всю свою жизнь занимался частной практикой в зажиточных домах. В верхнем этаже находилось две довольно поместительные комнаты на 8 человек каждая, очень светлые, теплые, а между ними были маленькие ожидальня очереди и аптека, она же и приемная; была и ванная комната, и клозет и, позади него, ход на чердак. Вот и все помещение. Выходило так, что одна комната была женской палатой, другая - мужской; клозет для них общий. Вентиляции не было никакой ни в верхнем этаже, ни в нижнем, стиралось белье в кухне; помещения для покойников не было и , стало быть, умерший должен был оставаться до погребения на своей кровати или вынесен наружу в дровяной сарай или на погребицу. Прислуга - женщина помещалась в кухне, а мужчина - в ванной. Медикаментов в аптеке было маловато, а о перевязочном материале и инструментах и говорить нечего: всего было мало и плохого качества. Вообще это была не больница в подмос-ковной фабрике, а пародия на нее. Родильное отделение помещалось в одной комнате, а в другой квартира акушерки. Кухни при них не было, клозет был холодный с поддувалом снизу. Все родильницы лежали в одной комнате, разделить их не было возможности, в этой же комнате крестили детей и справляли крестины, т.е. бывало и пьянство кумовьев. Ели родильницы свою пищу. Из прислуги был старик, который колол дрова и приносил воду и одна сиделка, помощница акушерки. Родильня помещалась на фабричном дворе и в ней постоянно бывали посетители то к той, то к другой родильнице. Белье на больных было свое. Во время родов под рожениц подкладывалась выделанная большая кожа, чтобы не прома-чивать тюфяк, и кожа эта редко высыхала. Мне предстояла большая задача - переделать всю больницу и весь строй ее. Для этого нужно было и время и средства. Времени-то было довольно, а средствами я не располагал, а подготовлял Правление посте-пенно к тому, что расходу нужно значительно увеличить на больницу. Я указал прежде всего на то, что держать покойников между больными невозможно; равно невозможно держать больных с заразными болезнями в подвале, нельзя доволь-ствоваться и тем убогим помещением, в котором находится родильня. Стало быть нужно все строить, или лучше не иметь совсем больницы, а войти в соглашение с какой-нибудь из городских больниц и отсылать всех заболевающих туда, а существующую больницу закрыть совсем, т.е. упразднить, как совершенно негодное здание. Я и теперь удивляюсь, как архитектор мог строить такое здание для больницы? Зачем ему нужно было зарываться в землю, когда места было вдоволь на большом дворе? Я начал с того, что прежде всего схлопотал устройство часовни, куда можно было бы выносить покойников, а потом думать и о том, куда помещать заразных больных, назначенное же для них помещение в подвальном этаже, совсем забросить, как ни к чему не пригодное или обратить его в кладовую для картофеля и пустой аптечной посуды. Скоро постройка часовни была начата и так же скоро окончена; она представляла собой как бы небольшой павильон, похожий на те, какие бывают на выставках, довольно красивый; в нем было два окна, а на стене, против входной двери, поставлено большое Распятие; перед ним, посередине помещения, особое возвышение, на которое можно было бы поставить гроб с покойником. Эта мера заслужила, кажется, одобрение фабричного населения, тогда еще нравственно не испорченного и вполне верившего в Бога и с почтением относившегося к умершим. Потом я начал подготовлять Правление к пристройке отдельного флигеля для заразных больных или для того, чтобы разъединить оба пола, т.е. в прежнем каменном здании оставить женщин, а в новом поместить мужчин, причем, в одной половине будут заразные, а в другой не заразные и хирургические. это тоже удалось сделать. Построен был большой флигель с широ-кой террасой с южной стороны, на которой можно было летом оставлять больных в течении всего дня. В этом здании можно было свободно поместить 20 человек; тут была и ванна, и клозет, и место, как бы для буфета. Отопление было печное, и, притом, печи расположены были внутри здания так, что в каждой комнате было по печи и по камину для вентиляции. Ванна нагревалась особой маленькой печью, в которой был куб для воды. Клозет, конечно водяной. Снаружи это здание было выкрашено зеленой масляной краской, а через два года, когда оно достаточно осело, было оштукатурено внутри и тоже выкрашено масляной краской, что давало возможность мыть стены несколько раз в год. На некотором расстоянии от стены были посажены елки, что делало весь домик довольно привле-кательным с виду, да и внутри присутствие снаружи деревьев не дозволяло солнцу сильно светить, особенно тем больным в глаза, которые обращены были лицом к окнам. Все здание было новое, чистое, опрятное, все кровати и постельное и носильное белье - все было новое, но тем не менее и больные и посетители их успели занести клопов, с которыми шла постоянная, но малоуспешная борьба, потому что каждый посетитель приносил их с собой и непременно садился на постель к тому, к кому пришел, а садиться на стул или табуретку почему-то считалось обидным, из-за чего нередко возникали неприятные конфликты. Больные тоже заявляли мне иногда, что их беспокоят клопы, хотя в спальнях не принимают никаких мер к тому, чтобы выводить их, говоря, что разве их выведешь? На пищу больных было обращено особенное внимание: я почти ежедневно лично присутствовал при раздаче обеда, пробо-вал кушанье и всегда находил его хорошо изготовленным. Кухарка, конечно, взята была другая. Относительно пищи могу сказать, что прихотливость больных не знала пределов: им давалось следующее. Утром - чай, столько, сколько выпьет или разрешено, с белым хлебом; в 10 часов утра стакан молока с белым хлебом; в 12 час. дня обед из двух блюд, причем первое (суп, щи, борщ) горячее с 1/2 ф.(200гр.) мяса на человека; второе - какая-нибудь каша, т.е. или гречневая, или пшенная молочная, или манная, или рисовая тоже молочная и непременно с маслом; иным, по свойству болезни давались котлеты с картофельным пюре, или жаренная баранина с картофелем. Хлеба давалось до насыщения. В 2 часа давался опять чай с остатками молока, а в 6 часов вечера ужин, т.е. опять горячее кушанье, но уже без говядины, которая была съедена за обедом. Это тоже служило иногда причиной для неприятных разговоров. А если иногда больному, особенно слабому давалось вино, так это вызывало у других такое недовольство, что дело чуть не доходило до скандала. Вообще пища больных стоила не менее 50 коп. в день, т.е была такая цена, которая превышала стоимость содержания больного во всякой Московской больнице, даже в институтах. И все же находились недовольные. Жаловались даже на то, что им не дают котлеты, хотя они и не пробовали их не разу в жизни, а в артельной столовой они платили не более 6-6 1/2 рублей в месяц, т.е. по 20-21 коп. в день. Количество потребля-емого чая и сахара в счет у нас не шло: пей, сколько угодно, только не прячь сахар и все-таки прятали и говорили, что сахару дается мало. Удовлетворить прихотям было невозможно. Устроивши это отделение больницы, я задумал устроить и новое помещение для родильни и сверх всякого ожидания, это дело было решено в 5-6 минут, благодаря тому, что при разговоре об этом присутствовал К.И.Солдатенков, - уважаемый старик-директор, который спросил лишь у бывшего здесь архитектора: “а сколько это будет стоить?” И когда тот ответил, что это будет стоить тысяч 20-35, Солдатенков решил: “Ну, что же?. Стройте, только что бы было хорошо.” И дело было окончено. Тотчас же дано знать по телефону на кирпичный завод, чтобы тотчас же везли кирпичи. Меня, не привыкшего так легко относиться к тысячам, это даже удивило. Мы с архитектором тут же составили план расположения будущих палат. Это было для меня уже совсем легко, потому что я уже много раз обдумывал этот план и знал его хорошо. Это дело было решено в апреле, около половины его; в первых числах мая начали рыть канавы для будущего фундамента, а 24-го ноября все двухэтажное здание было уже готово, а в этот день в него поступила первая родильница. В нем было два этажа; во 2-м этаже была квартира акушерки, прислуг и в другой половине квартира учительницы. Квартира акушерки соединена внутрен-ней лестницей с нижним этажом, хотя был и общий парадный ход с красивой лестницей, а в нижнем этаже - коридор, смотровая комната, в которой осматривались все вновь поступающие, ванная с клозетом, процессная на три кровати, две большие палаты на 8 кроватей каждая и отдельная палата на две кровати, комната кабинет врача и тут же бельевая. Кроме того с особым ходом была очень светлая большая комната для септических родильниц, в ней все было отдельное. Кроме того была еще и передняя, в которой ожидали своей очереди приходящие женщины. Палаты и процессная были окрашены масляной краской, а остальные - клеевой. Всюду масса света, тепла, хорошая вентиляция камином и каминными форточками. Из процессорной, по окончании родов, женщина передвигалась в палату вместе с кроватью при помощи особого приспособления на маленьких резиновых колесах довольно легко и без всякого шума или треска и кровать ста-вилась на свое место. Делалось это так легко, что передвинуть кровать вместе с лежащей на ней женщиной мог даже и малый ребенок. Однажды как-то был на фабрике Главный акушер Московского родовспомогательного заведения при Воспита-тельном доме доктор Петр Иванович Добрынин и я просил его побывать в нашем родильном учреждении, отнестись к осмотру его с самой строгой критикой и сказать, что следовало бы здесь улучшить. Он осмотрел все здание и не нашел ничего, что можно было бы улучшить. Так все было целесообразно и соответ-ствовало последнему слову науки и практики. В таком виде и существовало это учреждение пока я служил при фабрике и его охраняла все время бывшая при мне там акушерка Мария Николаевна Побединская, раньше меня поступившая на фабрику и после меня там остававшаяся еще много лет. Насколько скупо было правление Мануфактуры на меди-цинскую часть при фабрике в первое время по моем поступлении туда на службу, настолько же оно было торовато впоследствии, когда убедилось, что мои требования основательны и полезны для дела. Оно старалось также выполнять все требования Московской администрации, хотя это и было иногда очень нелепое требование. Например, в 1892 году в Москве ожидалась эпидемия холеры, которая уже появилась по берегам волги; и вот в Правление получено предписание, чтобы при фабрике были устроены бараки для холерных больных и снабжены всем необходимым для лечения. У нас по какому-то расчету барки должны были вмещать в себе 120 кроватей, т.е. 60 для женщин и 60 для мужчин. Они должны были быть устроены в течении двух недель, причем администрация прибавляла, что если это не будет исполнено, то администрация построит их сама, а потом взыщет стоимость с Правления. Конечно, сообразили, что лучше строить сейчас же, чтобы не входить в рогатые отношения с губернатором и не перепла-чивать втридорога. Но какие же могут быть бараки на 120 человек сделаны в две недели? Конечно, тесовые. Начали строить и построили, но не в один тес, а в два. Крышу сделали из толя, полы - двойные в ввиду того, что бараки должны были бы служить и осенью. Для отопления поставлены циркуля-ционные печи с длинными трубами, дававшие много тепла. Устроена и ванна. Когда все было готово, уведомили губернатора, что его предписание исполнено. Приглашен был отдельный врач, который бы заведовал лишь холерным бараком. С приглашением этим было немало хлопот. К стыду московских врачей я должен сказать, что они в это время подняли себе цену до невероятия. До тех пор они бросались на любое место в 50 руб. в месяц, особенно молодые, а тут начали требовать 250 рублей и квартиру. Делать было нечего: пришлось платить и это, особенно ввиду того, что их приглашали нарасхват на все фабрики и заводы, благодаря той же московской администрации, сильно опасавшейся заноса и распространения холеры в Москве. Ко мне однажды утром явился молодой жидок врач Гр. Моисеевич Самоль с рекомендательным письмом от Вл. Андр. Тихомирова и просил принять его для заведывания холерным бараком. Ввиду письма Тихомирова я согласился принять его тотчас же и спросил его об условиях, т.е. жалованьи. Он прямо сказал, что он желает получать 250 руб. в месяц и квартиру и чтобы служба его считалась с нынешнего же дня, хотя бараки еще строились. Я, конечно, согласился и уведомил о том Правление. Оно не возражало, стало быть, согласилось и оно, а через месяц, когда барак был уже открыт, но больных еще в нем не было, тот же Самоль, обуреваемый жаждой наживы, заявил мне, что если ему не будут платить 400 рублей, то он уходит, потому что рисковать своей жизнью за 250 рублей в месяц не желает; я понял очень хорошо, что это с его стороны вымогательство, что он желает рисковать своей жизнью за 400 рублей в месяц, а не за 250 руб. Ну, черт с ним, пусть рискует за 400; я согласился и на это, конечно, уведомивши о том Правление. Я предписал лишь Самолю, чтобы он был постоянно на фабрике и отлучался бы из ее пределов лишь в то время, когда я там был, дабы не навлечь на себя нарекания, что вот дескать два доктора при фабрике, а случилась экстренная надобность в них и ни одного нет на месте. После того, как барак был устроен, однажды, часов в 11 ночи (довольно лунной) на фабрику явился губернатор Сабуров в сопровождении Губернского врачебного инспектора пресло-вутого Петра Ивановича Зорина. Губернатор только что возвра-тился в Москву и прямо с железной дороги отправился к Зорину на квартиру и вместе с ним пожаловал на фабрику, желая, видимо, застать здесь все врасплох. Но это ему не удалось. Жидок Самоль был в это время в больнице и встретил их лично. Зорин все показывал Губернатору и повел его по бараку, а когда выходили из больницы, губернатор спросил: “ а что это за постройка?” - указывая на небольшой павильон красивой наружности. “А это, Ваше Превосходительство, - отвечал Зорин, - я приказал Правлению построить часовню для умерших, вот оно и выстроило”. Жаль, что Губернатор не полюбопытствовал посмотреть какова часовня. Тогда бы он убедился, как дурачит его Зорин, потому что в этом здании в одной половине был обыкновенный сортир, а в другой помойная выгребная яма, а в крыше был устроен вентилятор, вследствие чего и не ощущалось специфического запаха. Но Губернатор прошел мимо, и, кажется, еще перекрестился, принявши шпиль на крыше за крест. Когда они пришли в барак, Самоль и тут сопровождал их и сообщил, что барак устроен на 120 человек, хотя легко было сосчитать, что кроватей было лишь по 15 в два ряда в каждой половине, т.е. всего 60 кроватей, но они и этого не догадались сделать по своему убожеству. Больных в это время было человека два-три и при том с поносом, а не с настоящей холерой, но жидок все же обрызгал Губернатора и Зорина смесью карболовой кислоты со спиртом из большого пульверизатора, причем Губернатор говорил: “ Благодарю Вас, но я ведь не боюсь холеры”. Этот ночной визит оставил, кажется, у властей хорошее впечатление: их слушались и повиновались им. В это время в среде земских врачей Московской губернии возникла мысль о том, чтобы все фабричные больницы отдать в руки земства, т.е. чтобы ими заведовали земские врачи, а фабриканты - хозяева давали средства на содержание больниц и не вступались бы в управление ими. Земским врачам, видимо, понравилась эта мысль и они всячески начали пропагандировать ее. На Даниловской мануфактуре, как помещающейся вне пределов города Москвы, эта пропаганда отражалась особенно рельефно. Земство постоянно начало указывать на то, что наша (Даниловская) медицинская помощь недостаточна. это видно из того, что в Земскую больницу обращались за советом несколько сот наших рабочих в течении года. Наше правление запросило у них список таких лиц, обращавшихся во вновь открытую Шаболовскую больницу с перечнем поименно обра-щавшихся и с указанием времени и возможной диагностикой и продолжительностью болезни. Когда этот список попал в мои руки, я рассмотрел его и оказалось, что наши рабочие бывают в Шаболовке только лишь по праздникам и в хорошую погоду, т.е. отправлялись туда на прогулку и ради развлечения заходили в больницу, а в графе “продолжительность болезни” отмечено: 10, 16 и даже 20 лет болит голова”, т.е. это все такие хроники, которые, вероятно, успели перебывать во всяких больницах и болезни их не мешают им поступать на фабрики, где они работают годами. Когда я дал свой отзыв по поводу этого списка и его отправили в земскую управу, а оттуда в Шаболовскую больни-цу. Боже мой, что там загорелось: тамошний врач Соколов, какой-то заядлый земец, разразился против меня целой филиппикой и даже нашел в моем отзыве, что-то гусарское, что я все решаю быстро, так сказать, не смотрю в корень, что мне непонятно человеческое горе, страдание рабочего человека, ищущего себе помощи всюду, где только услышит, что ее можно найти, что если бы наши (фабричные) рабочие пользовались надлежащей, действительной помощью, они не пошли бы за 4 версты от дома, а, конечно, обращались бы в свою больницу. Я указал на то свойство людей, наблюдаемое всюду в России, да не в одной России, что если куда-нибудь приезжает новый врач, к нему тотчас же лезут все хроники и оставляют прежних врачей без дела. Так продолжается около года, а затем бросают и этого вновь приезжего и лезут к следующему, так сказать входящему в моду. Тогда начали говорить, что у нас, в фабричной аптеке ничего нет, кроме валериановых капель и касторового масла, а больные, лежащие в больнице, все время остаются впроголодь. Кто пустил такие слухи, я не знаю, но они были до такой степени упорны, что Губернатор поручил тому же П.И.Зорину рассле-довать это. Зорин приехал утром, часов в 5 в больницу, чтобы осмот-реть пищевые продукты для приготовления обеда и ужина, взвесить их и присутствовать все время в кухне, вплоть до раздач обеда больным. Кушанье было действительно хорошее и П.И.Зорин был в недоумении и даже предложил вопрос кому-то из больных: “Может быть это сегодня обед хорош, а в другие дни бывает хуже?”, но больные, недолюбливавшие рисовый суп, который был по расписанию приготовлен в этот день, прямо сказали ему, что нынешний обед хуже, чем в другие дни. Этим ответом ему показали, что пущенный слух был совершенно неосновательный. По окончании дела с обедом он пошел в аптеку, и, в это время, как нарочно, получены были медикаменты от дрогиста Гетлинга, список которых заключал в себе более 100 названий и для отчета приложен был предыдущий счет с еще большим количеством названий, между которыми были и такие, как кодеин, кокаин, пирамидон и т.д. Зорин все это видел, некоторые даже развертывал сам, вероятно для того, чтобы убедиться в наличности их, а потом даже спросил: “А во что Вы даете больным жидкие вещества, например капли, хочу спросить, приносят ли больные свою посуду или Вы даете им Вашу?” Ему ответили, что никакая посуда у больных не спрашивается, а выдается отсюда. “А где же у Вас посуда?” Ему показали ящик с посудой. “Но ведь этого мало. Есть ли она у Вас запасная?” “Если Вы потрудитесь сойти в кладовую, Вы увидите там ее.” Он пошел и кладовую, и убедился, что там было 4 куля со стеклянной посудой разной величины. Он что-то отметил в своей записной книжке. Что он донес потом Губернатору, - я не знаю, но во всяком случае его ревизия должна была быть в нашу пользу: настолько были глупы и неосновательны те слухи, которые вызвали ее. При нем приходили тоже больные и все получали то, что им следовало в должном количестве. Этот самый Зорин немало удивил нашу фабричную администрацию своим советом, данным им во время ожидания холеры. Он спросил: “Что едят рабочие?” Ему ответили, что все рабочие и служащие при фабрике едят свое, а что именно, до того никому из администрации и дела нет. “Ну, как же можно держать рабочих на их столе, нужно давать кушанье от конторы; это будет гораздо лучше” - отвечал Зорин... “Но, господин инспектор, это будет слишком убыточно для фабрики”. “Нисколько не убыточно, а зато очень хорошо. Можно давать по1/2 ф. говядины в день, а в постные дни по 1/2 ф. рыбы. Теперь рыбы в Москве много и очень хорошей. Вчера, например, была осетрина по 60 копеек за фунт. Я сам ел ее и нашел, что она очень хороша”. “Но, ведь для того, чтобы накормить всех, для этого нужно 6000 фунтов осетрины!” “Что же такое? Зато будет хорошо”. Совсем говорил, как давнишний дьяк голодному москвичу в старые времена, описанные у гр. Алексея Толстого (“ведь не даром вчера в думе мы осетра съели!”). Вообще, этот Зорин пользовался особенной репутацией между врачами, плохо рекомендующей его как врача, но зато у администрации он был на виду и шел на своем служебном поприще довольно успешно, т.е. был действительным статским Советником, чего не могло случиться с ним, если бы он служил на каком-нибудь другом месте, как не имевший степень доктора медицины и, кроме того, имел звезду, но она как-то мало блистала и, надо полагать, была малой величины, не яркая. По выходе своем в отставку он перебрался в Калужскую губернию и там покончил дни свои вдали от всяких дел. Земские врачи Московской губернии, а особенно Москов-ского уезда никак не могли или не хотели простить мне то, что я всегда шел им поперек дороги в их вожделениях относительно фабричных больниц и всячески интриговали против меня, обвиняли меня даже в глазах рабочих в недеятельности и отстаивании лишь хозяйских интересов в ущерб интересов рабочих. Это проявлялось иногда в отдельных выходках рабо-чих, очевидно подбитых кем-то. Им хотелось как-нибудь столк-нуть меня с места и потому они иногда жаловались на меня по начальству, а когда начальство, например в лице исправника, разбирало их жалобу при них же, оказывалось, что она, жалоба, совершенно неосновательна и когда начальство указывало им на это, они отмалчивались и говорили, что они только так сказали, зря, что их этому научили, но кто научил - не говорили. Вообще земские московские врачи вели себя <....>тельно и все то, что они делали - ставили в большую заслугу себе, а что делали другие организации, хотя бы и во много раз лучше них, считали это пустяками, или забавой богатых людей. Говоря о Даниловской мануфактуре, я до сих пор еще не сказал, кому она принадлежала. Раньше она называлась просто Мещеринская фабрика; основателем ее был Василий Ефремович Мещерин, когда-то бывший тоже фабричным рабочим, потом ставший торговцем. Про него говорили люди, хорошо знавшие его биографию, что он задался целью составить себе состояние и действительно составил. Он никогда не оставался праздным, был всегда чем-нибудь занят таким, что давало ему выгоду, доход. В праздничные дни, например, лн брал несколько отрезков ситца, платков и других бумажных материалов, завертывал все это в тюк, взваливал его на плечи и с железным аршином в руках отправлялся туда, где предполагалось гулянье, скопление народа и открывал там торговлю до последнего аршина. Конечно, он распродавал все потому, что на гуляньи были люди довольные, с деньгами, и друг перед другом старались купить больше, а Мещерину только это и было нужно. В результате было то, что он возвращался домой с несколькими рублями барыша, а покупатели его - с пустыми карманами. Разочтясь со своими кредиторами, он на следующий праздник брал снова товар и обращал его в деньги. Капитал его у него повертывался в год более 20-30 раз, что давало ему прирост не рубль на рубль, а несколько десятков рублей на 1 рубль. И вот он построил фабрику и начал прясть, и ткать, и набивать ситцы. Рабочие у него были в полном подчинении, получали 3 и даже 2 1/2 рубля в месяц, на своих харчах. Все рабочие у него, кроме своих фабричных работ, должны были работать в саду, и в огороде, рыть гряды, сажать капусту, поливать и полоть ее. При лавке была харчевная лавка, отпускавшая рабочим всякий нужный им товар, который покупался ими с барышом для Мещерина. Такой товар как хлеб, сахар рабочие обязаны были брать в фабричной лавке, конечно по той цене, которая установлена хозяином. О школе при фабрике, родильне, больнице не было и речи: все такие учреждения не давали ему дохода, стало быть, и не имели места у него. Так шло дело несколько лет и состояние его росло и, наконец, выросло до того, что он один уже не в состоянии был справляться с ним, да и для самого дела требовался большой оборотный капитал, а у Мещерина его не было, потому что он все деньги обращал в недвижимое имущество, покупал дома, или строил новые, которые приносили доход в виде процентов и т.д. Так он выстроил большой дом в городе, выходящий на Биржевую площадь, в котором поместились торговые учреж-дения и гостиница для приезжающих (Мещеринское подворье), дом на Пятницкой улице на углу Черниговского переулка, все занятое торговыми помещениями, никогда не пустующими; против него дом, в котором жил сам с семьей, имение лесное и луговое недалеко от Москвы и еще что-то. Все это было нажито им самим, благодаря его энергии и предприимчивости. Но в последнее время пошло уже новое веяние: эксплуатировать рабочих по прежнему стало невозможно, на это было обращено серьезное внимание, понял это и Мещерин и, чтобы поддержать дело, он решил передать фабрику в руки товарищества, на паях, которое скоро составилось с основным капиталом в 3 миллиона рублей. Паи были быстро разобраны; часть их осталась у Мещерина, а остальные по 3 тысячи за пай пошло по рукам. Наиболее крупными пайщиками были Кнопп, Солдатенков и Щукин Николай Иванович. Эти три лица составили правление, директором распорядителем в котором был избран Щукин. Директорам положено жалованье по 8 тысяч рублей, а так как Солдатенков и Кнопп являлись в Правление не ежедневно, а все предоставляли щукину, то они согласились отдавать ему по половине своего жалованья; стало быть, он получал уже 16000. Тогда это было очень большое жалованье, не то, что теперь, за то и требовалось от него много работы, которую он умел делать, был здоров, энергичен, образован, знал Москву и москвичей, имел хорошие связи. По учреждении Товарищества Кнопп настоял на том, чтобы оно не брало себе ни того дома Мещерина, который был на Пятницкой улице, ни имения, а чтобы они остались собствен-ностью Мещерина, кроме скольких-то паев, за которые он не вносил деньги. Дело пошло на лад довольно хорошо. Положение рабочих улучшилось, их уже не заставляли работать что-либо кроме фабричной работы, например, в огороде; они могли покупать себе, что хотели, где угодно; заработная плата увеличилась. После этого Мещерин прожил недолго, около года и однажды в жаркий летний день, поевши с хорошим аппетитом холодной ботвиньи с осетриной, заболел и через 2-3 дня умер. Кроме директоров красильного отделения и прядильно-ткацкого на фабрике был еще директор хозяйственной части немец Лемкуль, животное в высшей степени грубое, неотесанное, самонадеянное, не выносившее никаких возражений или противоречий. Это была полная противоположность Щукину и оба они ненавидели друг друга, тем более, что по службе они часто должны были сталкиваться. Я поступил на фабрику в последний год жизни Лемкуля, и он внезапно умер после моего поступления. Лемкуль занимал очень большую квартиру - целый этаж большого здания, выходя-щего окнами на большую дорогу и на фабричный двор (другой стороной); отопление в ней было духовое и потому воздух очень сухой, отчего у него болела голова и, когда я сказал ему, что причина его болезни сухость воздуха, он велел сделать в большой комнате фонтан с резервуаром для сбора воды. Приказано и сделано, конечно за счет фабрики, а после его смерти фонтан был убран так же за счет фабрики. А это удовольствие стоило не тысячу рублей, а гораздо дороже за то, чтобы не болела его немецкая голова. Директорами Правления были Солдатенков и Кнопп. Солдатенков Кузьма Терентьевич был хорошо известен Москве уже несколько десятков лет - еще в сороковых годах бывший в Москве генерал губернатором граф Закревский - известный своим самодурством и необузданностью, в списке лиц наиболее известных в Москве своим либерализмом, отметил против имени Солдатенкова: “Купец, старообрядец, способный на все”. Что он хотел сказать последними словами неизвестно, но вероятно что-нибудь не в пользу Кузьмы Терентьевича. Солдатенков происходил из крестьян Богородского уезда Московской губернии, сам наживал свое состояние и хотя, как крестьянский мальчишка тогдашнего времени, не получил никакого образования в школе, но занялся самообразованием и заявил себя крупным издателем книг по истории и философии и изящной литературе. Наилучшие издания по этому отделу литературы принадлежали ему не только в 40-х годах, но и во все остальное время до 80-х годов. Он владел немецким и французским языками, был в большой дружбе с Иваном Васильевичем Щукиным, ежегодно живал по несколько месяцев за границей, имел в Москве прекрасный дом особняк на Мясницкой улице против Красных ворот, а в нем картинную галерею и библиотеку; он до смерти оставался холостым и жил много лет с француженкой, которая при нем и состарилась также, как и он при ней, а он умер в глубокой старости, сохранивши вполне умственные способности и отзывчивость на все доброе и полезное. Говорили в Москве, про него, что будто бы он состоял у должности архиерея в среде своей секты, но эти слухи совершенно неосновательны: он сам хорошо понимал, что он компро-ментировал бы старообрядчество, если бы был его владыкой. Все выдающиеся места за границей, особенно в Германии и Франции он знал превосходно, с тамошними финансистами был довольно знаком, а племянник его - тоже Солдатенков, - довольно образованный человек, несмотря на чересчур простую свою фамилию, был много лет русским посланником в Швейцарии и часто принимал у себя своего дядюшку. Состояние Солдатенкова состояло из паев в различных фабриках и в страховых об-ществах. Оно было 3-х - 4-х миллионное. Он был почти неразлучным другом Ивана Васильевича Щукина, происходившего тоже из крестьян, кажется Московской губернии, тоже хорошо известного в Московском торговом мире. Это был необычайно подвижной, небольшого роста человек, с черными глазами, глядя на которого невольно увлекался всякий, беседовавший с ним. У него была торговля ситцами и вообще бумажными изделиями; своей фабрики у него не было, а был у него в городе амбар, в котором всегда были наготове образцы всех существующих русских бумаготкацких фабрик, с обозна-чением на них: чье это изделие, номер, под которым он значится на своей родине и цена за аршин. Покупатель, являвшийся в амбар, разбирал образцы, выбирал то, что ему нужно, совершалась сделка, следовал приказ - доставить столько-то кип такому-то, туда-то и заказ исполнялся к условленному сроку. Это была комиссионно-исполнительная торговля, известная по своему устройству во всей промышленной России. Помещение торговли находилось в амбаре, но не следует думать, что это был амбар, как мы представляем себе по деревенским постройкам; это был огромный, роскошный магазин с паркетными полами, но без искусственного освещения, потому что торговля вечером при огне там не производилась. Между приказчиками были лица, говорящие на разных языках, особенно на восточных, потому что покупатели были по большей части из восточных человек. Приказчиков было очень много и на всех хватало достаточно дела. Обращение с ними было самое гуманное и тот, кто поступал на службу к Ивану Васильевичу Щукину, тот обыкновенно и оставался там до конца дней своих и хозяин хорошо знал всех своих служащих, входил в их семейные нужды и помогал им, если была в том надобность. Когда он умер, то кроме того, что оставлено было каждому из его детей по миллиону рублей (сыновьям) и жене, завещано было выдать всем служащим и рабочим при амбаре по годовому жалованью, а некоторым, долго служившим, и более того. Состояние его было огромное, достигало до нескольких миллионов рублей, что видно уже из того, что он давал каждому сыну, как я сказал выше, по миллиону рублей, а сыновей было пятеро: Дмитрий, Петр, Николай (Сергей?), Владимир и Иван, а дочери - Надежда, бывшая замужем за членом Московской судебной палаты Александром Виссарионычем Мясново, а другая - Мария за неудачливым агрономом Алексеем Ильичем Ладогиным, который в последнее время устроил конфектную фабрику около Пятницкой улицы в Болвановском переулке. Старший сын Щукина - Дмитрий - ничем не занимался, был отчасти ипохондрик и вся деятельность его состояла в заботе о сохранении своего здоровья и читал философские книги и об живописи и имел собрание картин - свойство Щукиных (у каждого была своя галерея), и собирал старинные художест-венные произведения. Жил, и кажется, он на доходы с капитала. Сыновья Петр и Николай воспитывались в Финляндии, в Гельсингфорской гимназии, где все преподавание шло на немецком и французском языках, поэтому они владели ими в совершенстве, знали отчасти и английский язык. Петр при жизни своей собрал огромный музей произве-дений русского искусства 15-го и 16-го столетий; некоторые вещи им описаны, фотографированы и снимки с них составили альбом, с описанием этих вещей на французском языке, а остальное все подарил Московскому Историческому музею, где сложено или лучше сказать, свалено в кучу в ожидании любителя, который явится впоследствии и разберет их, а Исторический музей отхлопотал Петру Ивановичу чин Действи-тельного статского советника. <....>. Владимир Иванович Щукин был горбатый, занимался изучением медицины, не зная анатомии и никогда не бывавши в анатомическом театре; скелет-то он изучил; вскоре после смерти отца он перебрался в Париж, жил там вместе с братом Иваном на свой миллион и там умер, проживши почти все, что у него было, а брат Иван, самый младший из всех Щукиных, учился в Москве, в Полвановской гимназии, но занимался очень плохо, а потом и совсем бросил и занимался изучением византийской иконописи и сам писал, довольно недурно, византийские иконы, как любитель; а после смерти отца, вместе собратом Владимиром переехал в Париж, жил открыто, читал лекции о Византийской живописи в Ecole libre, имел слушателей, много знакомых между художниками, учеными, историками, которых он кормил хорошими ужинами, о приобретении средств не думал, а когда данный ему миллион истощился - обратился к ростовщикам, которые в свое время потребовали уплату процентов. Уплатить он не мог, потому что и от братиного миллиона не оставалось ничего и ему оставалось лишь покончить с собой, что он и сделал, застрелившись в одно прекрасное утро, когда у него ничего уже не осталось. Сергей Иванович Щукин единолично унаследовал дело отца: ему принадлежал амбар в городе и огромный склад бумажных изделий при доме, который он купил у княгини Трубецкой (Надежды Борисовны) в малом Знаменском переулке. Здесь у него была и картинная галерея и громадный зал, где любители давали свои концерты, здесь же и собрание старинных художественных изделий из фарфора и глины. Он вел отцовское дело настолько успешно, что значительно увеличил капитал отца и перед революцией имел свободного капитала до 7 миллионов рублей, а жена его(забыл ее имя), зная хорошо английский и вавилоно-ассирийский языки и на основании тех материалов, которые хранятся в Британском музее, написала роман из ассирийской жизни, но не успела вполне окончить его: быстротечная болезнь <....>. Тому, кто составил себе понятие о Московских купцах и купчихах по типам Островского, должно казаться, по меньшей мере странностью, что между купчихами в Москве есть такие, которые могут писать романы, даже из ассирийской жизни; но те, которым она сама читала выдержки и некоторые главы из романа (особенно профессор философии Челищев) отзывались о нем очень хорошо, говоря, что она воскрешает перед глазами читателя древнюю жизнь востока. Сам Сергей Иванович, кроме занятий музыкой, художес-твами и торговлей, занимался еще и философией, любил это дело и пожертвовал университету капитал в 100 тыс. рублей на устройство философской клиники, которая и была устроена на дворе здания университета. Что это за учреждение - я не знаю и не понимал, чему там будут учить и учиться. Но здание есть. При доме в Малом Знаменском переулке он устроил огром-ное здание, безопасное в пожарном отношении, которое было наполнено товаром (изделиями разных фабрик) на сумму не меньше как на два миллиона; я сам слышал от него не раз, что если вести его дело, так нужно иметь товара налицо не меньше, как на эту сумму. Конечно, весь этот товар был не его, а чужой, который лишь держал у себя в складе в ожидании покупателя, с которого и брал барыши за полежалое. Такие просвещенные и образованные люди, как Сергей Иванович и его жена могли бы, кажется, дать самое блестящее образование и воспитание своим детям, а этого не вышло, сын сделался пьяницей и в молодых годах погиб, под влиянием алкоголя бросившись в прорубь на Москве реке: его долго искали, не зная где он, может быть уехал куда-нибудь, или живет где-нибудь в Москве в каком-нибудь притоне. Родители его публиковали об его исчезновении, предлагали крупную сумму денег тому лицу, которое укажет местопребывание его живого или мертвого; но все было напрасно и только тогда, когда началось таяние льда подмосковные крестьяне, верст за 20 от Москвы усмотрели его труп, дали знать о своей находке роди-телям его, и те признали в нем своего сына. Как он попал в воду - неизвестно; утром он ушел из дома в контору в нормальном своем состоянии, хотя накануне за обедом выпил целый флакон <....>, но ведь это бывало ежедневно. Дочь их, сестра утонувшего, будучи 16-и лет, вышла замуж без согласия и даже вопреки желанию родителей за такого же мальчика, как и она сама, а через год бросила его и приехала к отцу. Поведение детей до такой степени поразило их мать, ассирийскую писательницу, что она быстро умерла и муж ее оставался один в целом громадном доме, где не особенно давно давались общедоступные концерты и где могла протекать беззаботно и радостно жизнь для многих. Теперь он задумал взять к себе на воспитание несколько детей сирот, оставшихся от интеллигентных родителей (учителей, врачей, профессоров, художников, архитекторов) без всяких средств, желая определить на их воспитание большие средства, но самому в воспитание их не вмешиваться, а предоставить это другим. Но, кажется, это была только затея, и дальше того дело не пошло. Из всего семейства Щукиных наиболее знакомым мне был Николай Иванович. Я познакомился с ним по совету Н.И.Шкотта в то время, когда я икал место врача при фабрике. Это было летом во время Нижегородской ярмарки; когда я пришел к нему в 1-й раз, он только что приехал из Нижнего Новгорода; я передал ему записку Шкотта и высказал свое желание, он принял меня сухо и нелюбезно; сказал, что место теперь занято, но вероятно освободится в скором времени и тогда он уведомит меня об этом (стало быть, не отказывает) и просит оставить мой адрес. Так дело оставалось до моего поступления туда, о чем я уже писал выше. После поступления моего на фабрику, когда я задался целью проведения там различных реформ, мне часто приходилось видаться с ним в помещении Правления и почти всегда он был со мной любезен, даже и тогда, когда дело касалось лишь расходов, например о выдаче служащим при больнице наградных к праздникам Пасхи и к Новому году. Сближение наше постепенно улучшалось и он даже поручил мне лечение своего младшего брата Ивана, который начал проявлять какие-то странности характера, перестал ходить в гимназию Полива-нова, в которой учился, а говорил дома, что идет туда; начал лгать, чего раньше с ним не бывало. Я объяснял себе это тем, что он по своему возрасту вступал в период pubertatis, когда с мальчиками случаются подобные казусы помимо их воли и намерения, когда организм требует усиленной физической работы. дело пошло лучше, гимнастика помогла. Это помогло еще большему нашему сближению с Николаем Ивановичем, а потом, когда было устроено на фабрике родильное отделение - он нередко присылал разных женщин со своими записками, прося принять их в родильню для разре-шения. Это все были прислуги его родных или знакомых. Стало быть, вести о нашей родильне уже разошлись по Москве, если стали проситься в нее из разных сторон Москвы. Нам нужно было поддержать это мнение, что мы с Марией Николаевной и делали. Лет через 12-15 после нашего знакомства, он вздумал жениться, а до тех пор жил с одной певицей француженкой, которая свободно говорила по-русски и официально скрывала свое французское происхождение и почему-то называлась Орловой; она стоила ему в год до 200 тысяч и он, кажется, был очень доволен своим положением, и вдруг явилась мысль жениться и на ком же? На своей двоюродной сестре - Елизавете Дмитриевне, урожденной Боткиной; а по мужу Дункер. Здесь уместно сказать несколько слов о Дункер. Лет около 40 до описанного события в Варшаве овдовел служивший там полковник Дункер, жена его умерла почти внезапно и оставила ему двух детей - мальчика и девочку. Он был поражен этой смертью, не мог оставаться в Варшаве и приехал в Петер-бург, где не имея почти никаких средств, остановился в каких-то меблированных комнатах, заболел, отвезен в больницу и через неделю умер, кажется от оспы. Ни родных, ни знакомых у него во всем городе не было и дети, стало быть, остались совершенно без всяких средств и без призора; но на их счастье нашлась добрая душа, жившая в тех же номерах престарелая девица, которая приняла участие в судьбе детей, взяла их к себе, отхлопотала потом помещение их в казенные учебные заведе-ния: мальчика в Гатчинский сиротский институт, а девочку тоже в какой-то институт на казенный счет, кажется в Екатери-нинский. Кроме этой особы, престарелой девицы, у них никого не было; они считали ее за свою мать. а она их за своих детей; такие добрые отношения поддерживались между ними и впоследствии до глубокой старости приютившей их старушки, которую они поместили впоследствии в Троицком Посаде (Сергиево-Троицкий монастырь), где купили ей дом с садом и она жила там своим хозяйством, получая достаточную пенсию от своих обоих питомцев. Мальчик учился довольно хорошо и по окончании Гатчинского института поступил в Инженерный институт, откуда вышел специалистом по водопроводному делу - инженером Константином Августовичем Дункер и перебрался в Москву, где служил при Городском управлении по водопроводу, познакомился с семейством Боткиных и женился на Елизавете Дмитриевне Боткиной, двоюродной сестре Н.И.Щукина, у которой было очень хорошее приданое и очень большое умение жить и пользоваться жизнью. Они купили дом у Давида Абрамовича Морозова на Поварской улице, перестроили его и стали жить-поживать, но ничего не наживать. Н.И. Щукин бывал у них очень часто, чуть не каждый день. Так прошло лет 15 или больше, и однажды Константин Августович почувствовал себя нехорошо, прилег на диван и через несколько минут умер в присутствии Николая Ивановича, стало быть, жена его вдруг оказалась вдовой; ей было в это время около 40 лет, бездетна, с хорошим состоянием, потому что муж ее зарабатывал довольно много, а у нее был свой капитал и прекрасный дом на поварской улице, близ Арбатской площади. Сестра Дункера - Александра Августовна Дункер по окончании курса в институте, отправилась с каким-то семейством на Кавказ, в должности гувернантки; там ею прельстился извест-ный московский богач Третьяков, у которого была полотняная фабрика; он сделал ей предложение, которое было принято; они повенчались и она стала госпожой Третьяковой. Супру-жеская жизнь продолжалась недолго; Третьяков скоро умер, не имея детей, и все его состояние досталось жене его, в том числе и паи в Полотняной фабрике. Брат и сестра были очень дружны между собой и постоянно заботились о своей воспитательнице старушке, помня, что только благодаря ее бескорыстию и христианской любви к ближнему, они выдвинулись в люди, стали тем, что есть. Никола Иванович Щукин тоже хорошо относился к ней. Бывая часто у Щукиных, когда Н.И. был уже болен, я иногда видал эту скромную старушку, которая умела держать себя с достоинством, никогда не жаловалась на свою судьбу и никогда ничего не просила, довольствуясь тем, что получала и вела свое домашнее хозяйство, а во время разговоров постоянно вспоминала детство своих питомцев, называя их и в глаза и заглазно Костя и Саша. Елизавета Дмитриева в память своего первого мужа тоже относилась хорошо и старалась обставить ее возможно лучше, звала ее жить у нее в доме, но та постоянно отказывалась и так и осталась в посаде. Вот эта-то Елизавета Дмитриевна, бывшая Боткина, а потом Дункер и вышла замуж за Щукина. Здесь позволю себе сказать несколько слов об этой свадьбе. Она состоялась приблизительно через год после смерти Дункера. Будущие супруги с давних пор симпатизировали друг другу, а после смерти Дункера эта симпатия еще более усилилась. Московские священники не хотели их венчать, хорошо зная, что Щукин и Боткин родные между собой; нашелся было подмосковный священник, который за 1000 рублей согласился повенчать их, но его попадья разболтала о будущей хорошей получке ее мужем крупной суммы за венчание кому-то из своих хороших друзей в Москве и когда те узнали имена жениха и невесты и объяснили ей, что они двоюродные между собой брат и сестра, попадья сообщила об этом мужу и тот приехал сам в Москву и извинился перед женихом, что отказывается от венчания. Тогда горю их помог хороший знакомый, присяжный поверенный, бывший раньше товарищем прокурора при Тульском окружном суде (забыл его имя и фамилию). Он узнал в Тульской консистории, что в одном из уездов в Тульской губернии есть священник - большой любитель веселой жизни, который намечен к исключению из духовного звания за свое поведение. К этому то священнику и обратились за содействием, объяснив, что жених и невеста родные между собой, т.е. двоюродные брат и сестра и предложили ему на первое время 1000 рублей, а если повенчает, то и больше. Священник, зная хорошо, что он намечен к расстрижению, согласился повенчать и повенчал, а потом, получивши за это хорошие деньги, отправился в Петербург и подал там прошение о назначении его священником на флот; его приняли и назначили на тот броненосец, который потом японцы расстреляли в бухте Чемульпо, кажется он назывался “Варяг”. броненосец был расстрелян на глазах европейских моряков, которые были поражены отвагой священника, не боявшегося быть убитым и под огнем орудий оказывавшего помощь раненным до тех пор, пока оставшийся в живых экипаж парохода был взят в плен. Иностранцы по собственной инициативе все засвидетельство-вали о необычной храбрости и христианском подвиге священника и ему дан был орден Георгия за храбрость и пенсия в 600рублей в год. По окончании войны с Японией, когда был размен пленными, возвратился и священник в Россию, имея на груди Георгиевский крест, и сделал визит к Щукиным, причем объявил им, что судьба его теперь обеспечена, что пенсии ему вполне достаточно, чтобы жить в деревне (он вышел в отставку) и говорил, что все это только благодаря им, супругам. Первое время супружества шло дело хорошо, молодые были счастливы, но в скором времени стали замечать, что у Николая Ивановича дрожат ножки, а потом и сам он это заметил и взялся за палочку; дело постепенно пошло своим чередом: болезнь Tabes dorsalis развилась уже настолько, что года через 3-4 он вынужден был оставить свою службу директора-распорядителя в правлении Даниловской мануфактуры, хотя и лечился у Казанского профессора невропатолога Дорныевича, который назначил ему 60 втираний ртутной мази. Ртуть не помогла, а отравила больного до такой степени, что разрушила зубы и вызвала <....> .Следы ртути в моче, при анализе ее, были заметны даже через 2 года после прекращения втираний. Нижняя половина тела начала атрофироваться, моча стала задерживаться, боли в ногах стали настолько сильны (ланценирующие), что больной кричал от них. В таком состоянии повезли его заграницу в Гейдельберг, к тамошнему профессору Erb‘y. Но и здесь не стало лучше; поехали в деревню в Курскую губернию, - тот же результат; на следующий год опять к Эрбу, там ко всем невзгодам присоединился общий фурункулез, от которого больной и умер после одного из подкожных впрыскиваний морфия, делаемых обыкновенно фельдшером. После него остался лишь один серебряный рубль, хотя известно было, что накануне он получил от брата Дмитрия из Берлина 55000 рублей и никаких платежей не делал. Вероятно фельдшер попользовался, а для того, чтобы лучше выполнить предприятие - впрыснул ему морфия больше того, что нужно. Прибывший скоро после его смерти Эрб, говорят, был удивлен, что больной так скоро умер, потому что перед тем не было никаких указаний на такой скорый конец. Дело об этом не возбуждалось, хотя виновность фельдшера Krone была очевидна. Умершего перевезли в Москву и похоронили на кладби-ще Покровского монастыря, где хоронились все Щукины. Когда он жил в Москве и лежал, не вставая, я навещал его почти ежедневно для того, чтобы вводить ему катетер, так как без него он не мог опорожнять свой мочевой пузырь. В это время он страдал от болей ужасно и иногда даже кричал от них. Меня он встречал радостно, но эта радость недолго продол-жалась: через несколько минут, если у меня не было рассказать ему что-нибудь особенно интересное, он впадал в апатию и начинал дремать, а потом кричать. жену свою он возненавидел, приписывая ей причину своей болезни. Собиравшиеся у них по заведенному порядку по воскресеньям гости, в том числе и генерал губернатор А.А.Козлов, редко заходили к нему, чтобы не утомлять больного и все хорошо знали, что за болезнь у него и терпеливо ждали печальный конец. Ненависть к жене дошла у него до того, что она почти перестала входить к нему в комнату, а если когда и входила по какому-нибудь делу посоветоваться, он, не считаясь с моим присутствием, кричал на нее, называя ее дурой. Она выносила это терпеливо. В это же время они задумали взять себе приемыша, непременно девочку от здоровых родителей и говорили об этом со своими знакомыми; прислуга слышала эти разговоры и, конечно, в свою очередь не молчала и вот однажды, в зимний вечер, когда у них никого не было, раздался звонок с улицы, отворили парадную дверь на улицу. Швейцар никого там не нашел, а у самих дверей лежала большая корзина. Конечно сверху спросили, кто звонил. Швейцар объяснил в чем дело. Взяли корзину, понесли наверх, развернули ее и увидали, что в не й лежит очень хорошенькая девочка, судя по одеянию ее - не из простых. Когда корзину поднесли к Николаю Ивановичу - девочка проснулась и улыбнулась ему. Это на него так повлияло, что он решил оставить ее у себя. Ей, по-видимому, было месяца полтора. Так как при ней не было никакой записки, то не знали, крещена ли она, какое имя у ней. послали за приходским священником спросить у него, как поступить. Священник пришел и, осмотревши девочку, заявил, что на ней, как обыкновенно, нет никаких знаков, указывающих на то, что она крещена, и советовал окрестить ее и дать ей имя для того, чтобы избежать впоследствии от множества хлопот за неимением имени. Так и сделали: сейчас же крестили и назвали ее Ниной. Крестной матерью была почти постоянно жившая у них подруга Елизаветы Дмитриевны генеральская дочь Мария Николаевна Коптева, а крестным отцом - Николай Иванович. Сообщили обо всем этом полиции, которая составила протокол с изложением всех обстоятельств дела, а так же того, что мануфактур (или коммерции) советник Н.И.Щукин согласился взять себе ребенка и усыновить его. отец и мать (приемные) положили на ребенка по 150 тысяч рублей и стали его воспитывать. В последний раз я видел эту девочку, когда ей было уже лет 15-16. Она было очень мила и воспитана француженкой гувернанткой под бдительным надзором своей крестной матери Марии Николаевны. Это было все еще задолго до революции, а что стало после того и какая судьба постигла всю вообще семью Щукиных - я не знаю; я слышал только, что Сергей Иванович умер где-то заграницей, кажется в Германии, а как пережила это время Елизавета Дмитриевна - не знаю. Чтобы быть последовательным, считаю нужным сказать, несколько слов о третьем директоре Правления Даниловской мануфактуры - Федоре Львовиче Кнопп. Это был мужчина немного старше меня годами, сухощавый, выбритый, лишь с очень маленькими усиками, очень опрятно одетый, с виду напомина-ющий совсем англичанина, хотя говорили про него, что он из евреев. Но я, привыкший видеть жидов и жидков во всякой степени их развития, не находил в нем уже и тени еврейства. Он был очень богат, состояние его во время японской войны насчитывалось в 100 миллионов. Все это было вложено в фабрики бумагопрядильные и набивные, в которых он был крупным пайщиком, поставляя на них машины, получаемые из Англии, где он покупал их как устарелые за очень низкую цену и ставил в России за цены высокие. Некоторые русские фабрики настолько задолжали ему, что почти всецело работали на него, например Вознесенская мануфактура близ села Пушкина, а Нарвская мануфактура близ Петербурга, работающая не паром, а силой водопада, и, стало быть, дающая особенно большой дивиденд, с давних пор принадлежит ему. Кроме того у него было несколько хлопкоочистительных заводов в Туркестане, большое подмосковное имение Давыдово, купленное им у Хвощинского, дом в одном переулке на Маросейке, контора в Деловом дворе и проч.. Все дело вел он со своим братом Андреем, имевшим тоже свой дом рядом в Колпаковском переулке на Маросейке, этот был наиболее деятельным и подвижным и он то и устраивал заводы в Туркестане, а Федор Львович заведовал по преиму-ществу делами конторы, хотя у них было еще особое лицо - заведующий конторой, очень любезный человек, с которым мне пришлось познакомиться. Основателем конторы Л. Кноппа был их отец Лев Кнопп, который явился в Россию в 50-х годах, а может быть и в 40-х годах, как комиссионер по продаже заграничных красок для фабрики. Про него говорили, что, в виде рекламы, привез образцы красок на своем теле, раскрасивши его разными красками и, когда нужно было, показывал эти образцы покупателям, чем составил себе известность между фабрикантами, а стало быть и покупателями. Вообще, это был человек не пренебрегавший средствами к тому, чтобы сделать свое имя известным, а потом уже стал участником в фабриках, что передал и своим сыновьям, а эти расширили свои дела и сети до того, что между москов-скими фабриками (прядильно-ткацкими и набивными), т.е. рабочими их составилась поговорка: “Нет обедни без попа, нет фабрики без Кноппа”, а другие говорили: “Нет постели без клопа, нет фабрики без Кноппа”. Жили братья очень скромно, даже по их состоянию скупо; у них не было никаких вечеров, обедов, что так свойственно русскому богатому человеку; они, конечно, не отказывали себе ни в чем, а желания их были всегда очень умеренны и даже скромны. Мне приходилось видать их за завтраком в Правлении Даниловской мануфактуры. Что же они ели? Гречневую кашу - размазню с маслом сливочным и запивали ее молоком или яблочным вином по 50 коп. бутылка. И это все. А наш русский человек со ста миллионами состояния, - чтобы он только не съел за завтраком? А сколько бы он пропил на вине. Ведь был же рядом с Кноппами в Москве богатый человек С.П.Губонин (сын того Губонина, который нажил большое состояние, как подрядчик, во время постройки Московско-Курской железной дороги), который жил в одном из переулков близ Пятницкой улицы в своем доме, имел хорошего повара и, конечно, запас вин в своем погребе, и который мог бы позавтракать и дома, а он не желал этого, а ехал именно только с целью позавтракать в гостиницу Славянский базар и всякий раз спрашивал бутылку красного вина в 15 рублей. И результат поразительный - Кнопп остался таким же, каким и был, а у Губонина продали все его состояние с молотка, даже продали и носильное платье иему с семьей пришлось переехать в Петербург, где он и жил со всей семьей в 15-ти рублевой меблированной комнате, а на какие средства - неизвестно. У русского человека состояние выросло быстро, быстро же и растаяло, а у англичанина росло и выросло медленно, но зато и стоит крепко и все увеличивается и крепнет. Таких примеров очень много. Где, например, состояние Кошелева, Воронцова-Дашкова, где сказочные миллионы Потемкина, Орлова, Шереметьева? Или громадные имения Зубова, Меньшикова и др.? В России, сколько мы знаем, большие богатства скоплялись лишь у монастырей, например у Троицко-Сергиевой Лавры было 106 тысяч крепостных крестьян, которых они потом сразу лишились по царскому указу, а у Саровской пустыни Серафима были знаменитые леса сосновые, тянувшиеся в одну лишь сторону от Монастыря к Тамбову на 40 верст, где на все пути не было ни одного человеческого жилья, да вероятно и по другую сторону в том же роде. Ведь это такое богатство, которое трудно даже исчислить сразу? Оно было цело и увеличивалось по мере роста леса и не требовало никакого расхода по его охранению, потому что единоличные порубки никакого значения не имели, а на крупные кто же решится ввиду таких расстояний и когда кругом есть такие же леса? Но нашелся и на них ловкач - Воронцов-Вельяминов (Александр Ефграфович), который, зная монашескую жадность к деньгам, уговорил игумена монастыря пуститься в коммерческие дела: разрабатывать лес при его Воронцова помощи. Ну и стал разрабатывать, да так, что у монастыря не получилось ни денег, ни леса, а у Воронцова оказались хорошие барыши. Вообще не один Кнопп, а многие иностранцы, приезжавшие в Россию искать счастья, скоро находили его: недаром же у нас столько иностранных фамилий между богатыми людьми: одни из них нажили состояние торговлей и промышленностью, другие службой на высоких государственных должностях, третьи роднились и брачились с богатыми русскими дурами и делались владельцами богатых поместий. А сколько денег и русского золота и серебра отвезено заграницу под видом платы за лечение на минеральных водах или просто на проживание там какого-нибудь молодого савраса, которому в России просто скучно, и он нигде не может найти себе развлечения. Некоторые из них переселились совсем туда, оставили здесь лишь источник доходов, которым заведует непременно какой-нибудь немец, понимающий русский язык, а есть и такие русские, которые и родились и выросли заграницей, совсем не знает русский язык и никогда в России не бывали, знают о ней только то, что там очень холодно и зимой люди ходят в шубах, а в русских лесах живут волки. Таков, например князь Голицын, постоянно живущий в Италии и родившийся в ней, а ему принадлежат громадные пространства земли и много хороших имений, в общей сложности 1.255.000 десятин, куда входит и подмосковное имение “Кузьминки”, как место Главной конторы и помещение Главного управляющего, живущего в тамошнем дворце. А есть ли хотя бы один русский, который нажил бы себе состояние заграницей промыслом, или торговлей ил выдвинулся бы на служебном поприще настолько, чтобы это обогатило его, как обогатило иностранцев? Я таких не знаю, да вряд ли и кто-нибудь знает. По оставлении Н.И.Щукиным места директора распоряди-теля Даниловской мануфактуры его заместил Георгий Петрович Нейвелер, до тех пор бывший при Щукине его помошником, как обучавшийся его делу. Семья Нейвелеров тоже иностранного происхождения, но не такого бойкого свойства, как Кноппы. Отец их - Петр Нейвелер - был когда-то хорошо знаком с Щукиным и взял с него слово, что он будет помогать сыновьям его в приискании служебных занятий. И вот явились на сцену четыре сына. Старший из них был Георгий Петрович, которого взял под свое крылышко Николай Иванович. Чем он раньше занимался и где учился, я не знаю; мне известно только то, что он хорошо владел французским и немецкими языками, говорил хорошо и по-русски, так как он раньше служил поверенным французской хлебной фирмы Дрейфуса, жил постоянно на юге России, скупал там хлеб и отправлял его во Францию, а когда эта фирма лопнула, остался в России и перебрался в Москву, где и поступил в Даниловскую мануфактуру, совсем не знакомый с ее делом, да и вообще с фабричным делом. Но он скоро ознакомился с фабрикой и постиг всю ее премудрость и ведение дела ее; особенно легко было ввиду того, что служащих при ней было много, каждый хорошо знал свою часть и в нескольких словах мог объяснить всю сущность своего дела. Стало быть, нужно было иметь хотя сколько-нибудь смысла в голове, чтобы в один месяц постигнуть все дело, а Щукин держал его около себя года два или три и только тогда признал его годным для себя заместителем. Другой брат Нейвелер был в это время директором прядильно-ткацкого отделения фабрики и вел его, кажется, довольно хорошо, тем более, что ему было известно, что Ф. Кнопп просматривает ведомости прядильни всякий день, в который бывает в Правлении, осматривает и образцы пряжи, стало быть, находится под бдительным надзором Кноппа, специалиста в прядильно-ткацком деле. Со стороны служащих жалоб на него не было и вел он себя вообще довольно скромно, тихо, ничего не требовал и был почти незаметен. Но это все было во время службы Щукина и быстро и крупно изменилось по выходе его в отставку, за болезнью. Тут оба брата сразу заявили себя как бы хозяевами фабрики и начали покрикивать даже на тех, которые были им не подчинены. Директор прядильщик занял другую квартиру, устроил около нее асфальтовую большую площадку для крокета, обнес оригинальным забором свою усадьбу, роскошно отделал квартиру, хотя и оставался все тем же директором, что и раньше. Георгий Петрович на фабрику не переехал ввиду того, что ему гораздо больше времени нужно было проводить в городе, в Правлении, да и живя на своей квартире не будешь стоять на виду у всех соседей, как живущий при фабрике, где все знают друг про друга все решительно, даже и то, чего они сами не знают. Он держал прекрасную извозчичью лошадь с хорошим экипажем и ежедневно приезжал на фабрику, где он вел себя уже как хозяин и только немного сдерживался в красильной фабрике, где не понимал ровно ничего, особенно в красильном деле. Ни в каких расходах по улучшению жизни брата и его семьи (в это время тот обзавелся уже семьей), он не стеснялся, ездил ежегодно сам заграницу, конечно на счет фабрики, и проводил там месяца 1, 1/2 - 2. Завтракал с Кноппами, конечно, размазней, ну а обедал в какой-нибудь ресторане 1-го разряда, по большей части в отдельном кабинете с усиленным виновозлиянием и вообще проводил вечера очень весело, но за то ежедневно, в назначенное время, из минуты на минуту являлся на свое место, указывая пример аккуратности всем при фабрике. Недаром он и иностранец (швейцарский подданный). Но как бы крепко здоровье не было - оно у него все же подалось: он обрюзг, ожирел и стал быстро стареть, так что в 50 лет смотрел уже совершенным старцем 70-75 лет. Скоро появились у него все признаки язвы в кишках, но какого свойства - не было установлено, но все же он поправился настолько, что мог продолжать свою службу и был даже в общем собрании пайщиков мануфактуры, где был уличен в нанесении больших убытков пайщикам, причем не мог предста-вить никаких оправдательных документов на убытки в 2 миллиона рублей, что по тогдашнему времени составляло огромный капитал и потому вынужден был оставить свое служебное поприще и сделался биржевым маклером. Конечно от него откачнулись и Кнопп и новый директор Ал. Сем.Бер и все те, которые раньше перед ним заискивали. Братья его - Арнольд, тоже служивший в правление и 4-й, служивший в конторе, тоже служивший в конторе, тоже должны уйти со службы и оставался лишь один директор прядильщик, который бежал с фабрики лишь при наступлении революции, когда восставшие рабочие захватили фабрику в свои руки. Но она не могла идти долго за неимением надежных руководителей (директора и мастеров) и за отсутствием сырья, топлива, красок и оборотного капитала, а также и за отсутствием покупателей. Вообще тогда торговля стала, а рабочие занялись политикой, в которой они вряд ли что-либо понимали и шли как бараны за пастухом, за химиком Евг.Фед.Эккерле, который потом попал в тюрьму, а будучи выпущен из нее на поруки рабочих, бежал в Германию. Дальнейшая судьба мануфактуры мне не известа; кажется она долго оставалась без дела, т.е. стояла закрытой, а оставшиеся рабочие занимались разговорами, интригами и неведомо откуда получавшимися средствами на проживание. Я давно уже не получал никаких сведений с фабрики, но все же думаю, что некоторая жизнь там есть; думаю так потому, что там существует и функционирует больница, равно и родо-вспомогательное заведение и, хотя почти пустая аптека. Коли-чество служащих при них, кажется осталось прежнее, ну а относительно содержания, т.е. кормления, чаепития и соблюдения чистоты - дело значительно ухудшилось. (Эти слова написаны в половине февраля 1922 года, а точных сведений о ходе дела на фабрике, да и вообще в Москве, у меня нет с 1918 года.) Не пора ли мне сказать теперь и о том впечатлении, которое у меня составилось относительно рабочих за все время моей 24-х летней службы при фабрике? Общее впечатление у меня то, что в последние годы они стали гораздо требовательнее, чем это было раньше, и какие бы условия с ними не заключали при принятии их на работу, они в первое время молчали, а потом начинали пренебрегать ими, если они не доставляли им прямых выгод. Особенно в этом отношении отличились молодые рабочие, и чаще холостые, по моему самые безнравственные из всего человеческого рода. Для них нет ничего святого и те из них, которые побывали в школе, выучились с грехом пополам читать, эти самые невозможные люди. Они свой досуг проводят в карточной игре или в орлянку; в шата-ньи по улице, если есть деньги - в заседании в трактире и пенье скверных песен. Все эти песни-частушки с искусственным, но неудачным остроумием - это произведения фабричных. Я заметил, что когда на фабрику поступает мальчишка в I-й раз только что пришедший из деревни, как он уже врет, говоря, что ему сравнялось 15 лет, хотя на самом деле и по метрике видно, что 15-й год еще не окончился; на вопрос почему он так говорит, он всегда отвечает, что это поп наврал или случайно ошибся, а он сам верно знает, что ему уже прошло 15 лет и теперь идет 16-й. Поступивши на фабрику он смотрит волчонком, всюду озирается и присматривается ко всему с недоверием и в свободные от работы часы - спит. Ни с трактирами, ни с другими притонами он еще не знаком, иногда ходит в церковь, где ведет себя хорошо, по-деревенски или ходит по улице; в компании придерживается больше своих однодеревцев и постепенно накопляет силы, чтобы потом развернуться в тот махровый цветок, который называется настоящим фабричным. Первое действие его по преображении из деревенского в городского начинается с того, что он покупает себе красную рубашку и черную жилетку с блестящими пуговицами, новый картуз с лакированным козырьком и только. Преображение его наступает обыкновенно через три месяца по наступлении на работу; скопившиеся за это время деньги идут на покупку сапог с длиннейшими голенищами, которые сидят на ноге со мно-жеством складок, а будучи сняты и растянуты - оказываются длиной более аршина. Как надевание, так равно и снимание их сопровождается громадными усилиями, особенно если взять во внимание то, что они надеваются не на чулок, а на портянку. Такие сапоги, лет 20 назад стоили 15-16 рублей, что, конечно, было недешево, а потому и нужно было их беречь, а для этого покупались еще глубокие резиновые блестящие калоши, которые и надевались на сапоги, хотя бы на улице была пыль. Дальше оставалось лишь купить черные штаны и пиджак, что делалось при следующей получке. И вот представьте себе парня полгода назад прибывшего из деревни: он одет в пиджак (спинджак, по его произношению), в черные штаны, заправ-ленные в голенища со множеством складок, резиновые калоши, жилетку с металлическими пуговицами, красную рубаху навыпуск из-под жилетки и фуражку с козырем, не закрывающим лоб или глаза, а торчащим вверх неизвестно зачем, а из-под него торчит клок нечесаных волос. Картина готова; нужно только, чтобы она оживилась, а для этого в кармане хранятся семена подсолнуха, в изобилии поедаемые, причем шелуха сплевывается с таким приемом, что одна половина скорлупы остается на губе; целое зерно тоже не кладется в рот, а как-то всегда вбрасывается особым приемом. Для полнейшего оживления фигуры нужно только, чтобы она заговорила, а для этого есть большой запас всякого сквернословия и самых непристойных песен местного происхождения, которые и выливаются из уст фигуры целым фонтаном, точно они ожидали, чтобы их выпустили наконец на волю. С этих пор он идет уже неуклонно по одному и тому же пути, если к нему не присоединится еще пьянство. В последнем случае вся одежда его или закладывается без надежды на выкуп, или продается или пропивается и владелец ее остается в рубище. Раз побывавший в таких условиях, т.е. наживший одежду и пропивший ее, навсегда остается в таком положении, то в виде фабричного франта, то почти без всякой одежды и кончают такие люди тем, что совсем отбиваются от деревни, становятся никуда не годными рабочими, да их нигде и не принимают, хотя они и обходят все фабрики; в конце своей жизни, беспутно проводимой, они поселяются на Хитровом рынке, живут там, чем Бог пошлет, не смущаются и нищенством и кражей, попадают в острог и в больницу для чернорабочих, где и умирают, а трупы их поступают в университетский анатомический театр для студенческих упражнений. Это кажется единственная польза от них, которую они приносят помимо своей воли и своего желания. Подобных лиц прошло перед моими глазами немало. Чтобы им не дать, в какие бы условия они не поступили, какие бы обещания они не давали - все побеждает страсть к алкоголю и надежда на то, что человек надеется на себя, что он все сможет сделать, что всякое дело ему не впервой. Эта-то самонадеянность и губит их. Кроме пьянства свободное время убивается еще картами. Играют в азартные игры конечно на деньги, а когда они проиграются оценивается одежда, прежде всего верхняя, а потом остальная. Бывали такие несчастные игроки, которые в конце игры оставались в одной рубашке. Я по собственному опыту знаю, насколько трудно бывает иногда удержаться от игры, но знаю также и то, что у них это свойство почти поголовное и они предаются ему всецело, забывая все окружающее. Нередко бывало, что проигравший с себя все до рубахи вспоминал, что противник сделал что-то неладное во время игры, тот оспаривал, начиналось препирательство, кончавшееся дракой, кровопролитием, а иногда и сразу пускался в ход нож, помню, что был однажды случай, что проигравший четыре рубля всадил противнику складной нож шириной около дюйма, прямо в живот и выпустил из него петлю кишки такой величины, как обыкновенная чайная чашка, больной был доставлен в фабричную больницу; рана зашита, заросла через неделю и противники помирились, причем виновный должен был выдать потерпевшему бутылку водки. Некоторые из рабочих были знакомы со студентами университета, вышедшими тоже из народа, желавшими выдвинуться перед товарищами и для вящей популярности выставлялись или социалистами или революционерами, мало знакомые с делом, получившие все свое социалистическое знание из двух-трех брошюрок сомнительного достоинства, они бросали семя своего учения на восприимчивую почву, уснащали свои речи громкими задирающими словами, внушали молодежи, что все равны, что богатство, находившееся не у них, должно принадлежать им, что богачи обокрали их отцов и дедов и теперь должны возвратить внучатам все награбленное. Такие речи, конечно, находили слушателей и те, не передумавши их, не переваривши, принимали все на веру и в свою очередь сообщали своим близким. Так устанавливались и те партии, которые имели впоследствии такое огромное значение и привели к таким печальным результатам. Между подстре-кателями и выражению неудовольствия особенно отличался молодой парень Васька Петухов, который наслушался у знакомых ему студентов всякой революционной всячины и резко с жаром произносил свои речи, призывая отнять фабрику у хозяев, утверждая, что не хозяева, а рабочие ее создали. Рабочие сперва его слушали и согласились; он призывал к забастовке, но это ему не удалось; тогда он со своими приятелями начал угрожать тем, которые не шли на забастовку, что они убьют их детей или жену(у кого кто есть) и тогда решили, чтобы сам Петухов ушел с фабрики. Он согласился, но пожелал взять за это выкуп с рабочих.
Дополнения
К самовозвеличиванию немцев
Писавши о Берлине я сказал, что я познакомился там с нашим русским тоже москвичом, бывшим там с научной целью, именно с целью изучения рабочего вопроса, главным образом в Англии Николаем Алексеевичем Каблуковым и вот что он рассказал мне. В Берлине защищал диссертацию кажется на доктора юриспруденции или права (как он там называется) какой-то немец, долго живший в России, хорошо владевший русским языком. Его брошюра была довольно большая, не в пример обычным немецким диссертациям и посвящена главным образом хозяйству России и русской земской деятельности. Все что в ней говорилось, основывалось на общеизвестных фактах, но многое казалось Каблукову знакомым, когда-то читанным раньше, но когда и где, он сразу припомнить не мог. Но ему встретилось одно выражение, которое он когда-то прочитал и запомнил, а именно про вологодского мужика сказано было в отчете Вологодского Земского собрания, что он, вологодский мужик, не платит лишь за воздух, которым дышит, остальное все оплачивается. Вспомнивши эту фразу и видя ее перед собой в немецких переводах, он вспомнил и то место отчета, где она сказана, он написал в Москву, чтобы ему выслали этот отчет и получивши его стал сливать с тем, что написал немец в своей диссертации и оказалось, что 3/4 брошюры составляло не собственную работу автора, а только буквальный перевод с русского на немецкий язык, без малейшего уклонения от какого-нибудь указания на то, что это перевод. Каблуков отметил все то, что было переведено с русского и написал об этом статью в каком-то юридическом журнале, который незадолго перед этим расхваливал столько немца и превозносил автора. Дня через 2-3 после выхода статьи Каблукова, к нему на квартиру является редактор журнала и сообщает ему, что автор диссертации считает себя обиженным статьей Каблукова и требует, чтобы он печатно же извинился перед ним, так как он видит в его статье обвинение против себя в литературной краже - плагиате. Каблуков конечно отказался извиняться указывая на то, что автор диссертации нигде, ни одним словом не обмолвился о том, откуда он заимствовал все то, что указано Каблуковым. Немец (редактор журнала) приводил и как необходимость извинения еще то, что никто из профессоров факультета не указал диссертанту на то, что он написал не свое, а только перевод с русского, стало быть г. Каблуков своей обличительной статьей подрывает компетенцию факультета. Но и это не убедило нашего Николая Алексеевича, а дало ему возможность сказать, что он не виноват в том, что германские профессора не читают по-русски. А автор диссертации воспользовался этим их неведением и перевел с русского на немецкий язык такую статью, о существовании которой профессора и не подумали. После этого редактор был у Каблукова еще раза два и не добившись своего, оставил его в покое, видя что запугать того не удастся. Могло быть у нас в России что-нибудь подобное? Теперь если кто-нибудь станет у нас писать, что-нибудь по тому же вопросу, по которому написана немецкая диссертация, будет пожалуй ссылаться на нее, как на литературный источник, а о вологодских отчетах пожалуй и не скажет ничего не придавая им никакого значения. Другое дело немецкая научная работа, прошедшая через факультет и удостоенная ученой степени автора.
Московская полиция
Московская полиция за 50 лет до настоящего времени. Она ничем не отличалась от общероссийской полиции, которая никогда и нигде у нас не стояла на высоте своего назначения. Служащие в ней всякие чины были все люди желавшие хорошо пожить, т.е. вкусно и жирно поесть сладко, а пожалуй и пьяно попить, весело провести вечерок, не считаясь с тем, какими мерами или средствами все это приобретается. Здесь между служащими попадались и такие лица, которым следовало бы сидеть на скамье подсудимых, а не следить за нравственностью населения, предупреждать проступки и преступления. Здесь были и люди, вышедшие из мелкой чиновничьей семьи или среды, были и бывшие гг. офицеры, которым не везло на службе или по семейным делам нельзя было оставаться в полках; последних было, кажется особенно много между московскими приставами; большинство были или майоры или даже полковники, а оберполицмейстер был, конечно, генерал, как ему и полагалось по должности; помощники его были генералы; между ними были и бароны. Все это носило по внешности безупречный, опрятный вид, но если бы кто-нибудь поисповедовал такую безупречную особу, а она чистосердечно покаялась, то оказалось бы, что это великая грешница. Насколько были выгодны тогда все полицейские должности, видно из того, что когда решено было учредть должность полицмейстера при Московском Воспитательном Доме, там в числе многих подавших прошения на нее было одно от вице-губернатора какой-то губернии. Казалось бы не велика должность эта, а опытные люди находили, что это лучше вице-губернатора, хотя вся деятельность ограничивается стенами казенного учреждения и не переходит за них. В Москве, еще до моего приезда туда, славился своей деятельностью пристав Тверской части Пяткин, о котором ходило множество рассказов. Это своего рода Шерлок Холмс или Пинкертон или как его может быть иначе называть и о котором написана целая книга; ее читали во все России в 90-х годах и восторгались, особенно юноши тогдашнего времени, а выдержки из нее были помещены в одной уличной газетке, кажется “Московском листке”. Этот Пяткин был грозой для мелких воришек, но милостив для крупных воров, имена которых он отлично знал, но не трогал их, потому что многие из них принадлежали к известным фамилиям и их дядюшки со связями и родством, всегда готовые, во избежание скандала замять дело проворовавшегося родственника. Пяткин славился своими розысками, лично же для себя он наживал этим мало, довольствовался подарками за найденное; но другие приставы имели другую задачу - наживу личную и таких в Москве было большинство. Между ними на I-м плане стояли: пристав 2-го участка Пятницкой части Уханский или Ухтомский, у которого по выходе в отставку появился большой оригинальный дом на Зацепе, пристав Роговской части полковник Дремякин и самый замечательный на всю Москву Замайский - пристав Стретенской или Мясницкой части. Этот мог сообщить в течении трех дней у кого из обывателей, что именно украдено, а если необходимо было по службе представить украденное по принадлежности. Кроме того он держал свою часть в порядке: т.е. улица была своевременно подметена, на заборах не было пакостных надписей, дворы чисты, все живущие в его части имели виды на жительство, все записаны в домовых книгах, не было никого из беглых солдат. Если же случались нарушения этих порядков, Замайский узнавал об этом ему одному ведомым путем раньше домовладельцев, у которых это произошло. Являлся он к нему для составления протокола о совершившемся и намекал, что протокол еще не составлен и... стало быть, может быть составлен в том или другом духе, но во всяком случае составление его неизбежно уже потому, что дело получило огласку, доказательством чему служит то, что он, пристав явился на место происшествия, а составление протокола в том или другом духе стоит известных усилий, стало быть... и пр. В результате разговоров получалось то, что несколько радужных (100р.) бумажек из кармана домовладельца невидимым для других путем переползало в карман Замайского. И всякое дело, до которого он касался, давало один и тот же результат, почему и понятно было на какие средства он жил и притом очень хорошо. Он, конечно, занимал не роскошную квартиру, чтобы на это не могли указывать недоброжелатели, а сравнительно скромную, но изящно обставленную, не держал лошадей, чтобы это не бросалось в глаза начальству, не держал повара, а повариху, которая просто называлась кухаркой, хотя готовила лучше любого повара. В его участке находился дом Рещикова, где была воровская главная квартира (как я уже говорил) и там он мог видеть по утрам многие украденные в минувшую ночь вещи по всей Москве. Наилучшие вещи, наиболее интересные, а особенно старинные, он оставлял себе, как любитель антиквар и их у него образовалась целая кол-лекция. Я помню, как при мне говорил профессор И.В.Варвин-ский, что он однажды был приглашен к заболевшему Замай-скому и по окончании занятия с ним подошел к стоявшему в той комнате, в которой лежал больной, стеклянному шкафу, наполненному старинными серебряными и золотыми вещами. Варвинский и сам был знаток таких вещей и с удовольствием стал их рассматривать и каково же было его удивление, когда между ними он увидал свою вещицу, несколько лет уже как пропавшую у него. Это его очень заняло и он просил показать ему ее. Замайскому понравилось, что профессор интересуется его коллекцией и он предложил ему взять себе на память любую из вещей. Варвинский выбрал свою. да что Вы, г. профессор, выбираете такую дрянь, здесь есть более ценные и интересные вещи, чем эта, возьмите, если хотите и ее и еще что-нибудь; я люблю подарить что-нибудь человеку понимающему толк в вещах. Но Варвинский удовольствовался только своей вещицей и привез ее домой. Замайский служил долго на своем посту, составил себе имя хорошего пристава, хорошее состояние и хорошее же имя как грозы воров. Это был мужчина высокого роста, чисто выбритый, слегка надушенный, неумолимый в исполнении своих обязанностей, деликатный как жандармский офицер с дамами в обществе, исполнительный по службе, внешне вполне корректный. Я знал его хорошо в то время, когда жил в клиниках, потому что клиники были в его участке. Полковник Дренякин - пристав в Рогожской части нажи-вал состояние тем, что у него весь участок или по тогдашнему часть, составлявшая несколько теперешних участков, была населена богатым купечеством средней руки, но по преимуществу серым, описанным Островским, которое знало очень хорошо, что он любит, чтобы его величали полковником и стало быть чествовали соответственно его высокому чину не один раз в год, а несколько, помнили бы, что у него есть семья, жена и что оба они носят имена, данные им при святом крещении, что в году бывают праздники, в которые желательно каждому человеку по его чину и званию быть веселым и довольным, что каждый благонамеренный обыватель потому и называется благонамеренным, что никогда даже во сне не забывают этого. Всю эту мораль он отчитывал каждому из обывателей его части, если только он вздумал бы оказать какое-нибудь сопротивление, такому непокорному грозила большая неприятность: тогда можно было ставить постоем в дома обывателей городовых, без точного обозначения их числа. Что же мог сделать домохозяин, если к нему ставили человек 5-6 таких квартирантов? Жаловаться? Кому? Тому же приставу прежде всего, а потом уже и на пристава начальству его. А где же взять столько смелости, чтобы идти с жалобой на пристава и кто будет писать на него прошение? А чтобы пожаловаться полицмейстеру, для этого нужно запастись гладкой бумажкой и побольше; да чтобы дойти до самого то полицмейстера сколько нужно всяких расходов преодолеть. Сочти-ка все это, во что обойдется твоя жалоба. Положим, что по твоей жалобе переведут пристава в другую часть, а к тебе на шею посадят другого, ведь этот другой отлично будет знать, за что перевели отсюда его предшественника, кто был причиной этого и стало быть будет смотреть на тебя как на человека беспокойного. Нет. Ворон ворону глаза не выклюнет. Лучше уж делать так, как требуется Дренянкиным: оно и спорее и надежнее и дешевле. Конечно, мелочь какая-нибудь, в роде мелких мастерков не зналась с приставом: для нее достаточно было и квартального надзирателя и постовых городовых. Кроме приставов, была еще не маловажная особа в полицейской части - это письмоводитель, через руки которого проходила вся письменная работа. Когда части были разделены на теперешние участки, в каждом из них стало по несколько канцелярий, т.е. в каждом участке своя, свой и письмоводитель. Мне хорошо был знаком состав полиции 2-го участка Серпуховской части, особенно письмоводителя его, мой пациент Василий Пименович Торнарг, которому я сделал даже tracheo-tomia. Он говорил мне, что всю ту сумму, которая отпускается приставу на канцелярию, т.е. жалованье всем служащим, канцелярские расходы и наем квартиры - все это пристав оставляет у себя, а служащим предоставляет пользо-ваться доходами, главным образом отсутствием сдачи при уплате за что-либо марками и праздничными подарками от домо-владельцев. Сколько же было этих доходов, если одной бумаги и шнуровых книг изводилось более, чем на тысячу рублей в год, да кроме того нужно было платить жалованье всем писцам. И все же письмоводители находили возможным вступать в такие соглашения с приставами, жили не бедно и позволяли себе поигрывать в картишки, проигрывая и выигрывая наличными по 200-300 рублей в вечер. А если гости играли у него, так еще нужно было и угостить их, покормить и напоить. Не малую статью дохода полиции доставляли всякие общественные гулянья, крестные ходы, приезд в Москву кого-нибудь из царской фамилии, особенно самого царя, вообще, такие случайности, которые собирали массу народа на сравнительно небольшом пространстве. В это время в толпе действовала шайка воров (жуликов), которая вперед откупилась от полиции. Так, например, она уплачивала за крестный ход в Кремле не менее 25-ти рублей, но с тем, что если попадался кто-нибудь в воровстве не принадлежащий к шайке, за того она не платила, а пойманный отдавался шайке для расправы, и она взимала с него мзду для покрытия расходов. Все было здесь организовано, систематизировано, откуда выходило то, что самому найти украденное было невозможно, нужно было на все содействие полиции, т.е. принятие мер к розыску похищенного. Все приставы были люди зажиточные или делались таковыми через несколько лет службы в полиции; к числу последних относится и пристав 2-го участка Серпуховской части Мореев, сравнительно молодой, из гражданских чинов, что составляло большую редкость, но это объяснялось тем, что у него был родной дядя секретаря канцелярии обер-полицмейстер Соболев, особа в полицейском мире могущественная, со словом которого считался сам г. Обер-полицмейстер. Прослуживши года три в полиции Мореев будучи многосемейным человеком и ведя очень скромный образ жизни, стал человеком с деньгами. Я знал его довольно хорошо, потому что часто навещал его, как больного, он был чахоточный, но в такой степени, что мог еще служить. Дядюшка, конечно, заботился о том, чтобы ему хорошо служилось. Над приставами стояли полицмейстеры; их было всего четыре; я знал из них двух; барона Вудберга, кавалерийского генерала и Огарева, которого знала вся Москва за его необычай-ной длины и черноты усы. Огарев любил подносить подарки довольно дорогие тем дамам и девицам, которые принимают подарки от мало знакомых людей, - и делал это так: являлся в какой-нибудь магазин, выбирал вещь, которую намерен был подарить и не спрашивая стоимость ее приказывал отнести ее по даваемому адресу, а счет за вещь для уплаты за нее такому-то приставу; очередь приставов для расплаты у него велась в записной книжке; приставы отлично это знали и каждый держал деньги наготове, расплата следовала без малейшей задержки потому что Огарев любил аккуратность не теснил торговцев. Каждый пристав по району получал счетов ежегодно не меньше как на тысячу рублей и, конечно, после такой расплаты старался всеми мерами возвратить потерянное. Торговцы готовыми дамскими вещами знали эту привычку Огарева и спускали ему дорогие, не идущие с рук какие-нибудь вещи, например, дорогие меховые ротонды и т.п. А с какой целью делал это Огарев, про то знал он сам. И так велось дело все время его продолжительной службы. Был еще такой случай, которого я был свидетелем. В Златоустинском переулке, близ Мясницкой улицы, почти напротив самого монастыря открылся небольшой трактир, конечно, со спиртными напитками и начал торговать довольно хорошо. Монахи этого монастыря или архимандрит его подали куда следует прошение о том, чтобы закрыли этот трактир и при этом ссылались на то, что по закону не дозволялось подобные заведения ближе как на 40 сажен от церквей или монастырей. В данном случае расстояние было около 15 сажен от монастыря до трактира и он подлежал закрытию, но трактирщику было неудобно закры-вать свое заведение, и он со своей стороны обратился за помощью к Огареву, прося его изменить спорное расстояние. Огарев с приставом и городовыми явился в переулок и начал публично измерять расстояние. Городовой держал мерку в руках, и отмеривал поперек мостовую, а Огарев громко отсчи-тывал: один, два, девять, тринадцать, двадцать два (в этот момент, когда после шестнадцати следовало не 17, а 22 я и подъехал), 29, 36 и наконец, 43. Вышло, что монахи жаловались не основа-тельно: расстояние было 43 сажени по измерению, публично произведенному в присутствии понятых самим полиц-мейстером. Монахам в просьбе отказали, а трактир продолжал торговать. Огарев был декоративный полковник, а потом генерал с громаднейшими черными усами, высокого роста мощной фигуры, ездил всегда на паре лошадей на пристяжку. Он был любитель хороших вороных лошадей, а потому и дружил с нашим соседом на Б.Серпуховке Н.И.Беклемишевым, у которого была большая конюшня, куда приводились лошади из его имений в Тульской губернии. оба они были питомцы пажеского корпуса, последние остатки когда-то бывшей масонской ложи, у которой была даже своя церковь, позади почтамта, около меньшиковской башни. Оба они были охотники до лошадей, особенно городских, но не беговых рысаков. Заезжая за Москву реку, Огарев всегда заезжал к своему приятелю Баклемешеву, которого часто видели на улице, идущем в сопровождении своего камердинера, немного моложе своего барина, у которого не было имени, а звали его все, по примеру барина “Кудряшка”. Он был крепостной своего барина и после освобождения крепостных остался у него жить навсегда. Это был раб, преданный господину. Мне нередко приходилось навещать Беклемишева, в случае его заболевания, и Кудряшка всегда, провожая меня, просил дать ему на чай. Несколько моих гривенников попало ему в руку. Он просил у всех приходивших к Беклемешеву. И Огарев и Беклемешев оба были старые холостяки, у последнего была дочь, которая вышла замуж за жандармского офицера, кто был у Огарева - неизвестно. Беклемишев остался со своими старыми обычаями по поводу дворовых лошадей. У него при конюшне, прекрасно устроенной, был свой наездник и несколько конюхов, которых он нанимал с тем условием, что если он, конюх, проштрафится, то будет за то наказан, а именно по первому разу на него наденут хомут и будут водить по двору, по 2-му разу ему побьют морду, по 3-ему его высекут в конюшне розгами, а по 4-му прогонят со двора. И не за что это он не будет жаловаться ни мировому судье, ни полиции, никому. И на эти условия жить у него, все же, шли многие, потому что конюх, пробывший у Беклемишева год или больше, считался у лошадиных охотников надежным и его охотно брали на место предпочтительно перед всеми другими. С этими привычками Беклемишев остался до последних дней своей жизни, а Кудряшка умер раньше и его заменила какая-то старуха, которая, идя по улице рядом с барином, заботилась о том, что бы у него все было в порядке и дорогой иногда вытирала ему нос от ненужной капли. Огарев умер, если не ошибаюсь, раньше своего друга, который в последнее время уже перестал интересоваться и лошадями и чем бы то ни было. Когда вместо квартальных надзирателей были заведены околоточные надзиратели, а в уездах урядники и стражники, жалованье давалось околоточному 40 рублей в месяц, а они обычно платили за квартиру 50 руб. , на что же они жили? И надо сказать, жили так, что многие им завидовали. Великое дело - уменье жить, уменье добывать средства... В последние годы моей службы в Павловской больнице в наш участок был назначен приставом бывший исправник (Рязанской губернии) в г. Михайлове, уже старик князь Гедройд Юраго; он был деликатный человек, не хватал направо и налево, довольствовался своим жалованьем и тем, что присылали ему к праздникам неизвестные домовладельцы и остался бедняком, каким и приехал в Москву, так что и тут оправдалась пословица “В семье не без урода”. Других приставов я не знал так хорошо, как названных здесь, но смею думать, что и они были в том же духе, не даром же сложилось убеждение, что человека, служившего в прежней полиции, нельзя принимать ни на какую службу, ни гражданскую, а тем более частную, например в какое-нибудь общество, где есть соприкосновение с деньгами или каким-нибудь имуществом. В этом отношении они были несчастные люди: по выходе со службы из полиции - никуда и нигде служить не будешь. 4) По соседству с Павловской больницей стоял, да вероятно простоит еще долго, знаменитый Данилов монастырь, существо-вавший уже около 500 лет, основанный князем Даниилом Калитой на том месте, на котором он случайно нашел икону (явленную). В этом монастыре настоятелем в мое время поступления в больницу был архимандрит Амфилохий. Это был необычайно живой, подвижной старик, известный археолог, знаток греческого, латинского и особенно древне-еврейского языков. Когда я жил в Лейпциге, этом гнезде классицизма, там я встречался с каким-то немцем филологом, познакомился с ним и он, узнавши, что я из Москвы, спрашивал меня, знаю ли я в Москве старца Амфилохия и даже назвал его адрес. Я конечно сказал, что я не слыхал ничего о таком старце. Жаль, говорил немец, ведь это мировая известность и после его смерти у него не останется приемника по его специальности. Он читал по-древнееврейски так же, как на родном языке и он единственный во всей Европе, а стало быть и во всем мире, который может прочитать вновь найденную рукопись древне-еврейского языка, которую читать вообще довольно трудно и как прочитает ее он, так читаем и мы все и потому всякая такая рукопись обыкновенно скопир-ывается и посылается ему для прочтения, а он отвечает уже нам, и вот с этим-то старцем мне приходилось иногда встречаться у Левенталя, где он бывал нередко. Он вечно был занят своими исследованиями, работами в типографии (синодальной), где печатались его труды по сличению существующей псалтыри с древнееврейского и с какими-то еще книгами, в которых он находил разницу не в словах, а в буквах, часто бывал в знаменитой Хлудовской библиотеке, в которой сохранилось собрание старопечатных русских книг. На своем деле он был неутомимый работник, всецело преданный ему, ни на что больше не обращавший внимания и распустивший свой монастырь до невероятия. Монахи Даниловского монастыря, не чувствуя на себе никакой узды, спились почти все и редко бывало, чтобы кто-нибудь из них не лежал бы в Павловской больницы, страдая белой горячкой. Сам он даже говорил, не скрывая, что во все Даниловском монастыре лишь он один, да покойники, не пьют водку, а все остальные пьют ее запоем. Он был грязен, неопрятен, не всегда, когда нужно, прибегал во время еды к вилке, а брал кушанье руками, при мне однажды он съел целую коробку сардинок, вынимая их прямо пальцами из коробки, а потом пальцы обтер хлебом и съел его: то же было и с поданной и нарезанной кусками семгой и макаронами. Его за что-то недолюбливали митрополиты и несмотря на его долговременную службу в сане архимандрита, перевели в провинцию (Ярославль) не самостоятельным архиереем, а лишь викарием, хотя все права на епархию были за ним. После него в Даниловский монастырь назначен был новый архимандрит из священников в Рогожской (церковь Сергия) отец Иона. Насколько юрок был Анфилохий, настолько мало подвижен Иона. Старый про нового говорил, это не тот Иона, которого кит проглотил, этот сам трех китов проглотит. И действительно, это был огромного роста, не по-монашески тучный человек, большой любитель выпить, снисходительно относился к слабостям подчиненной ему братии и принимавший все меры к тому, чтобы возможно скорее можно было их отрезвлять. с этой целью у него в помещении был устроен душ, а другой в монастырской больнице, где обливали монахов перед тем, как им нужно было идти в церковь на службу. Он за время своего короткого управления монастырем сильно тряхнул монастырскую кассу, завел очень хороших лошадей и прекрасный экипаж. Он любил выпить и не отказывал себе в этом удовольствии, была бы компания. Однажды я был приглашен к нему, как больному, и когда пришел, застал страшную картину: он сидел на диване с каким-то блаженно-изумленным видом, смотря куда-то в пространство; на приветствие мое он не отвечал, видимо не замечал меня, а на полу, на ковре лежал сонный в полной форме помощник пристава Грушецкий; перед диваном на столе было много опорожненных бутылок от разного вина, которое они выпили. Я, не добившись от них ни слова, так и ушел, а на завтра Грушецкий тоже великий пьяница говорил мне, что они с отцом Ионой держали пари, кто кого перепьет, и оказалось, что Иона перепил. Месяца через 3-4 после этого моего визита, я вновь приглашен был к Ионе и нашел его в самом жалком виде6 он был очень слаб, сидел на ступеньках лестницы, ведущей в его квартиру, отечный, с раздутыми ногами, мог говорить лишь одно слово “плохая, плохххая”, повторяя его несколько раз. Около него была его дочь, которая хотела, чтобы я засвидетельствовал, что ее отец находится в здравом уме и твердой памяти, что он может написать свое имя. ей нужно это было для того, чтобы получить его 30000 рублей из банкирской конторы Волкова, иначе, в случае его смерти, эти деньги пойдут в пользу монастыря. Бывший тут нотариус не соглашался свидетельствовать здравый ум его и твердую память, я тоже не согласился и через несколько дней он умер, не приходя в сознание, и деньги достались монастырю в воздание за те расходы, которые Иона причинил ему при своей жизни.
К событию на Ходынском поле во время коронации Николая II-го Коронация Николая II-го застала меня во время моей службы в Павловской больницы. Задолго до назначенного для нее дня носились слухи о том, что она будет особенно торжественна, что будут устроены по поводу ее народные гулянья на Ходынском поле, что будут раздаваться народу подарки и т.д. Вот эти-то слухи, усиленно раздуваемые газетами, много помогли тому, что празднование должно было быть особенно торжественным и многолюдным. Устройство народных гуляний и раздача подарков поручена была особой комиссии под председательством моего старого приятеля и кума Николая Николаевича Бера и помощника его полковника Иванова, заведовавшего дворцами в Варшаве. Тогда носились слухи, неизвестно откуда почерпнутые, что будто бы бывший в то время генерал-губернатором в Москве великий князь Сергей Александрович остался очень недоволен тем, что устройство этих торжеств было поручено не ему, а Беру, и это сразу породило в нем недоброжелательное отношение к коронационной комиссии, что потом высказалось в очень печальной, трагической форме. Слухи о царских подарках были до смешного нелепы: например говорили, что каждая женщина, пришедшая на эти гулянья, получит в подарок корову, а мужчина - лошадь. Но никто не хотел верить этой нелепости и не подумали о том, где же взять столько скота и где поместить его, чем кормить до раздачи. Но слухи пущены и им верили. Я знал из первоисточника, т.е. от Николая Николаевича Бера, который жил в это время в Москве на тверской, что царские подарки будут состоять из 1/2 фунта вареной колбасы, 1/2 филипповских пряников сладких, жестяной эмалированной кружки с оттиснутым на ней орлом и большого носового платка бумажного, в который должны быть завернуты все эти вещи. На платке будет напечатан Николай II-й с супругой и еще что-то относящееся к торжеству. Кружки предназначались для питья из них пива, которое должно быть роздано прямо из бочек завода Горшанова и К. Платки были заказаны в количестве нескольких сот тысяч штук одной из Московских фабрик, а эмалированные кружки (цвета бело-сероватого мрамора) в Австрии, потому что в России спрашивали за них фабриканты очень дорого. Вообще же в распоряжение комиссии отпущено было 60 миллионов рублей. В эту сумму вошла и плата за наем квартир для приезжих высокопоставленных особ и их заместителей. А плата эта была довольно велика, если принять во внимание, что владельцы домов и квартир должны были, хотя и временно стеснять себя и поставить в занимаемую квартиру все, что у них есть наилучшего из мебели. Для тех же особ были наняты и лошади и роскошные экипажи, которыми никто другой не мог в это время пользоваться. День коронации был 15-го мая 1896 года, а народных гуляний день 17 мая. Перед этим был торжественный въезд в Москву царя с семьей из Петровского дворца в Кремль, т.е. по всей Тверской улице, которая сплошь была засыпана более чем на вершок желтым песком, взятым с Ходынского поля. Этот въезд мы видели из квартиры П.И.Дьяконова, который жил тогда в доме Порохов-щикова и окна квартиры его выходили на Тверскую улицу. Въезд действительно представлял собой что-то грандиозное. Сам царь ехал верхом на прекрасном выдрессированном коне, а кругом него на некотором расстоянии ехала стража казаков, одетых в красные кафтаны и с ружьями наперевес; бросить в него в это время хорошую бомбу ничего не стоило: можно было бросать даже в цель. Впереди всех ехал в открытой коляске наш московский обер-церемонейстер В.А.Нейдгардт с жезлом, сверкающим алмазами; за ним шли скороходы и арапы(арабы), из которых один даже захромал. Ехали верхом и какие-то народы в халатах и сидели на конях так ловко. что представляли собой как бы одно целое вместе с конем; а за верховыми уже тянулись целой вереницей золотые кареты, в которых сидели дамы из царской родни. Описывать весь этот поезд и вообще весь выезд я не в силах теперь: отчасти многое забыл, а отчасти потому что был он описан тогда же в московских газетах, где он назывался “торжественный кортеж”, а лавочники, не знающие иностранных языков, читали “Торжественный кортеж” и по прочтении удивлялись, что ничего не сказано про карты. На следующий день после выезда, по городу разъезжали герольды, одетые в какие-то средневековые костюмы и шляпы в сопровождении трубача. На перекрестках и площадях они останавливались и трубач трубил сбор, на который, конечно, сбегался народ посмотреть на невиданное и неслыханное зрелище, тем более, что герольд одет был в фантастический костюм с большим черным орлом на груди и на спине. Герольд громко читал по бумаге объявление к народу о том, что такого-то числа, месяца и года состоится в Москве, в Успенском соборе священное коронование их величеств, а затем будут празднества на Ходынском поле. Все это, конечно, увеличивало желание побывать на этом поле, любопытство сильно разжигалось. Кроме того, еще вся Москва видела, что в Кремле готовится что-то необычайное: по стенам кремля, по всем их выступам, какие-то люди (говорили, что это матросы) что-то прибивали и завинчивали; потом узнали, что это они проводили электрические провода. Даже были установлены многочисленные лампочки на колокольне Ивана Великого и на его кресте. Сделанная за несколько дней до коронации проба освещения оказалась очень удачной: весь кремль со всеми своими стенами и зданиями осветился менее, чем в одну минуту. Красная площадь, на которой были и мы, узнавшие от Бера о предстоящей пробе, была полна народом, и давка была здесь невероятная. Само собой разумеется, что любопытству пределов не было. Народное празднество назначено было с утра 17 мая. Накануне этого дня, когда я ехал на фабрику, я уже встречал группы народа, шедшие на Ходынку с узелками и корзинками в руке; это шли те, которые не особенно рассчитывали на царское кушанье и несли с собой пищу на ночь. К вечеру того же дня мы получили сведения о том, что на Ходынке происходит что-то невероятное, что уже задавили там несколько человек, что выпущенные по Манифесту из тюрем уголовные преступники делают в толпе свои дела довольно успешно и для этого не стесняются ничем и даже передвигаются по плечам и головам сгрудившейся толпы. Сперва этому мы не верили, а потом убедились в правоте сообщаемого. Что было там вечером и ночью - это не поддается никакому описанию, хотя и писалось тогда во многих газетах; были даже описания от иностранных корреспондентов с приложением очень хороших и вполне правдивых рисунков. Чтобы дать ясное понятие о причинах, вызвавших всю катастрофу, я скажу следующее в коротких словах. Для народных гуляний отведен был довольно большой участок земли, прилегающий одной стороной непосредственно к шоссе, идущему из Москвы мимо Петровского парка, а остальными вглубь Ходынского поля; весь участок был обнесен столбами с пропущенными через них канатами; на этом участке были поставлены карусели, качели, мачты и т.п. Прямо от шоссе шла очень глубокая канава, из которой вынимался песок и по мере того, как вынимался песок из канавы (грунт здесь сплошь песчаный) он выбрасывался на край канавы, обращенной к Москве, а выбирали его на этот край гораздо больше против того, что нужно было для засыпки Тверской улицы. Подъезжавшие к канаве колымажки увозили песок сколько было нужно, но его осталось на краю канавы все-таки очень много, так что образовался целый бруствер, величиной, т.е. высотой почти в 3 аршина, а так как он лежал на берегу канавы, которая была тоже не мельче 3-х аршин, стало быть от верхушки бруствера до дна канавы было не менее 6-и аршин. По другой стороне канавы тянулся ряд буфетов, около 70-ти, с промежутками между ними аршина в три или немного больше. Предполагалось, что народ будет подходить к этим буфетам со стороны канавы, где будут получаться подарки из рук артельщиков и получившие вступят на поле увеселений. Здесь же установлены были краны с водой (их было тоже не менее 70). Всю ночь, бывшую довольно теплой и душной, на всем поле между канавой и Москвой теснился народ не двигаясь дальше верхушки песчаного вала, а когда утром, при восходе солнца кто-то крикнул “раздают”, вся масса народа двинулась к буфетам и многие не могли удержаться на песчаной насыпи, падали на ней, сваливались в канаву, на дно, а напирая они шли как бараны без разбора поперек канавы, давили тех, которые попали туда, а их самих давили следующие за ними и потому эта канава скоро наполнилась задавленным и растоптанным народом. Через них, задавленных, прошли десятки тысяч людей, спешивших получить подарки. между буфетами промежутки оказались узкими и тут тоже происходила давка. С нашего больничного двора был там один мальчик (Миша дьякона Дроздова), который к 10 часам утра уже пришел домой и рассказывал, что он видел, как народ давил друг друга, а в 5 часов дня (я был дежурным в этот день) в больницу было доставлено 46 трупов, привезенных на дрогах, на которых ездят пожарные, а так же и в фурах для перевозки мебели, причем тогда такая повозка не была закрыта и из нее торчали наружу то руки, то ноги трупов. Эта перевозка совершалась среди белого дня через весь город с той целью, чтобы разместить их в часовни при больницах и тем самым избегнуть скопления народа на Ходынке. Когда у нас разгрузили повозки, разложили мертвецов рядами на дворе, явилась масса народа, разыскивающего своих родных. Так как оставлять на дворе такую массу трупов на ночь я считал неудобным и велел перенести их в подвал при часовне. Подвал этот небольшой, для местных нужд, а потому пришлось класть трупы в несколько рядов, как поленья дров и ждать дальнейших указаний о том, что с ними делать, до каких пор их хранить. Ночью явилось распоряжение по телефону от Почетного опекуна о том, чтобы к утру в больнице не оставалось ни одного трупа, чтобы они все были перевезены на Ваганьковское кладбище, где уже готовилась грандиозная братская могила на 6000 человек. Но какими же средствами выполнять это распоряжение? Где больница возьмет столько гробов? Как она может на одной казенной лошади перевезти такую массу трупов, какая была доставлена на нескольких подводах и даже в фурах мебельных? По просьбе больницы последовало разрешение бранд-майора воспользоваться пожарными перевозочными средствами и весь подвал к утру был очищен. Наш Ураноссов сперва все старался, чтобы народ расходился, не скоплялся на больничном дворе и не велел больше никого впускать на двор, а когда стоявшего у дверей сторожа не слушали, он велел запереть ворота; народ полез через забор. Ураноссову оставалось лишь уйти домой, потому что по его адресу стали сыпаться слишком резкие и даже бранные замечания, что он и сделал и все стихло; без него стало лучше. Когда масса народа двинулась к буфетам, произошла необычайная давка, давшая настолько много человеческих жертв, что ими была заполнена вся канава в 3 аршина глубиной и длиной около версты. Первыми в нее попали те, которые стояли на верху песчаного бруствера и не могли удержаться на нем; когда они заполнили всю канаву, тогда по ним, как по мосту, шли следующие и давили друг друга уже по другую сторону канавы, между буфетами, где промежутки оказались очень узкими. Кроме того, было много задавлено и в толпе еще с вечера, так как выбраться из толпы не было возможности и лишь по времени из нее какими-то непонятными силами выбрасывали людей из толпы и, конечно, выброшенных никто не думал подбирать. Кроме этой огромной толпы, стоявшей с вечера, утром 17 мая двинулась еще толпа в несколько тысяч человек, преиму-щественно из рабочих фабрик Прохорова (что около Трехгорной заставы). Эта толпа шла не по дороге, а целиком по полю между местом русско-французской выставки и краем Ходынского поля; по пути она наткнулась на бывший здесь колодезь, который рылся для выставки, не вырылся до воды и потом был заброшен; отверстие его заложили бревнами и засыпали сверху песком и с тех пор на него никто не обращал никакого внимания. Двигавшаяся здесь толпа раздвинула бревна, частью продавила их и попала в колодезь. Сколько попало туда людей - в точности не известно, но несомненно, что колодезь был наполнен ими до краев, стало быть их было там несколько сот. Вынимали их потом в течении трех недель по ночам и в конце третьей недели вынули еще живым швейцара Мясницкой больницы. Непонятно и невероятно, как он остался жив, лежа между трупами столь долгое время без пищи и воздуха; но что он был жив - это видно уже из того, что он мог назвать себя и сказать, кто он таков. Весь колодезь не могли очистить, в нем осталось еще много трупов; перестали их вынимать лишь потому, что работа стала очень опасной от трупного запаха и опасность осыпей со стен колодца. Всего похоронено было на Ваганьковском кладбище более 6000 человек, которые погребены по распоряжению Московской администрации, да еще многие похоронены родственниками, признавшими своих между задавленными. И вся эта масса народа была задавлена вне того места, которое обведено было канатом и назначено собственно для гуляний и увеселений. Московская администрация, отдавая место коронационной комиссии, указала ей на то, что вне обведенного места она, комиссия распоряжаться не может и уже это одно снимает с нее всю ответственность за происшедшее и падающую всецело на администрацию, т.е. на Генерал-губернатора с его полицией, иначе на Великого князя Сергея Александровича и обер-полицмейстера Власовского. Когда я по приезде из Пензы жил в Барановке, мне попал в руки очень важный документ, а именно письмо Н.Н.Бер, написанное им генералу Холщевникову по просьбе последнего. Он просил Бера написать ему совершенно правдиво, как священнику на исповеди, не утаивая ничего и не извращая, для того, чтобы он, Холщевников мог бы изложить всю правду Государю. В этом письме Бер обвиняет Власовского в недеятель-ности, а относительно Сергея Александровича говорить не желает, прося Бога положить хранение устам его и дверь ограждения устным его, иначе говоря боится назвать его виновником всего происшедшего. Замечательное дело, что на завтра после этой катастрофы объявлено было, что государь, желая прийти на помощь семействам пострадавшим на Ходынке, сделал распоряжение о том, чтобы потерпевшие семейства делали свои заявления в особо назначенную комиссию о том, что глава семьи пострадал там или умер и если такое заявление подтвердится из собственных сумм государя эти семейства получат по тысяче рублей. Разно понималось это распоряжение и некоторые думали, что под главой семьи подразумевается не тот, кто правит ею, а старший летами в семье; например дед. И в мое отделение поступил совсем слепой старик, который несколько лет провел на печи. У него все тело было в синяках, как бы от ушибов. Он был настолько слаб, что едва говорил, но на следующий день оправился и на мой вопрос, зачем он пошел на Ходынку, когда он слепой и все равно не мог видеть ничего, он мне ответил, что он вовсе и не был там и уже несколько лет не выходил из дома. А отчего же у тебя синяки по всему телу? А оттого, что меня взяли с печи, взвалили на телегу, сели втроем и всю дорогу до больницы щипали меня и били, приговаривая, чтобы я помнил Ходынку и говорил бы докторам, что меня измяли там. Родные считали его главой семьи и думали в случае его смерти получить за деда тысячу рублей. Иначе говоря пожелали продать дедушку за эту цену, попытались торговать дедом. Конечно, они были разочарованы в своих ожиданиях и взяли деда обратно с неприятным к нему чувством; они не сообразили того, что слепые не ходят на общественные зрелища. Были между потерпевшими и действительно помятые, но они не были главами семейства и, стало быть, ничего не получили, а из тех, которые получили ожидаемое, часть тысячи где-то застряла, и лишь остатки ее дошли по назначению. Я должен отметить, что ни на одном из 46 трупов, доставленных на больничный двор, я не видел следов крови, хотя и осмотрел их всех, хотя и не подробно; все они издавали явный трупный запах, стало быть, они были задавлены или ночью или еще вчера вечером, иначе такого запаха не было бы. Почти все были обуты не в московскую обувь, а в веревочные лапти, достаточно поношенные, стало быть, это были люди, пришедшие откуда-то издалека. Один только был, вероятно москвич, по профессии карманник, потому так думаю, что когда его вынули из фуры, у него из кармана выпало несколько карманных часов, вероятно, похищенных у его соседей в толпе. Но это был единственный случай. То же наблюдение передавали мне потом и из других мест, куда свозились трупы. Все это были иногородние, пришедшие посмотреть на батюшку царя и его семью и вместо удовольствия нашедшие себе погибель. Для расследования причин этой катастрофы назначена была особая комиссия под предводительством бывшего министра Юстиции гр.Пален, но он, как хитроумный немец, видя из следствия всю вину Сергея Александровича и желая его выгородить, повел дело так, что виновных не оказалось, что задавленные сами себя задавили, а все власти остались правы. Даже обер-Полицмейстер Власовский и тот оказался совершенно прав. Замечательно показание его. С первых же слов оно было неправдоподобно. Оно начиналось словами: “Накануне катастрофы (т.е. 16 мая) я узнал частным образом, что на Ходынском поле готовится народное гулянье и там начал собираться народ. Какой же он начальник полиции, если он только накануне узнал о предстоящем огромном стечении народа, о чем знал даже малый ребенок? Дальше он говорил, что на Ходынском поле не было воды, а для чего же были устроены несколько десятков (70?) кранов, соединенных с водопроводом, как не для воды? Но ведь и драка-то была не на огороженном месте, где были краны, а вне его, т.е. на том месте, до которого не имела права касаться коронационная комиссия и которое было в ведении московских властей. Теперь, когда со времени этого несчастного события прошел уже не один десяток лет и когда не осталось почти никого от бывших московских властей, ни кого либо от коронованных и им близких, нет и самого царя, многое уже изгладилось из моей памяти, но тогдашние газеты были полны описаниями всех сторон этого события. К ним-то и отсылаю читателей, желающих ознакомиться с ним подробней. <........> Но довольно говорить об этой печальной истории; в ней не было радости никому, а так или иначе были лишь грустные явления. После нее пошли все такие события, которые говорили за то, что если не будет коренной перемены в управлении, дело пойдет совсем скверно. Но такой перемены не произошло. Наступила русско-японская война с ее печальным для нас концом, затем малая революция, русско-германская война с исходом еще худшим, наконец, революция, перевернувшая весь строй русской жизни.
|
||
на главную страницу to the head page